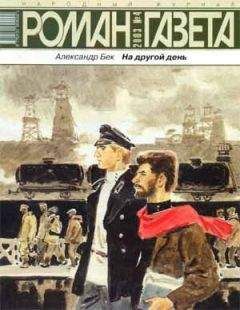Ушли, казалось, в дымку времена, дни семнадцатого года, когда он — в апреле и затем в октябре — схватывался с Лениным, получая в ответ нещадно разящие удары. Мысль, воля, непримиримость Ильича сгибали Льва Борисовича. Со склоненной повинной головой он возвращался к Ленину. И теперь эпически спокойно, основательно, в духе своих лучших резюме произносил вступительный доклад к чествованию Ленина:
— Человек величайшего ума, величайшей воли, величайшего напряжения и величайшей прозорливости. Я не хочу употреблять здесь, в родной семье борцов коммунистов, слов слишком широковещательных и слишком больших, но если все это сжать в одно-два слова, то это слово было бы, конечно, гениальная способность Владимира Ильича.
Фразы несколько шаблонны, уже стерты в обиходе, но пробивается живая теплота:
— Человек, который неоднократно оставался один, человек, который неоднократно объявлялся сектантом, раскольником, который неоднократно видел, что он как будто оказывается в стороне от широкой исторической дороги. И вдруг выяснялось, что эта широкая историческая дорога пролетариата лежит там, где стоит Ленин.
Что-то личное, не свойственное стилю Каменева, еще заметней возникает в его речи:
— Я не знаю случая, чтобы Ленин задумался над расколом с самым близким своим другом, с самой могущественной организацией, если он был уверен, что они отступили от теории пролетарского социализма.
Перейдя к прежнему эпическому изложению, Каменев выделяет самые дорогие Ленину, заветнейшие мысли:
— Русский пролетариат принужден был ходом истории России поставить вопрос о власти и государстве. Первые образцы революционного решения вопроса о власти были даны Владимиром Ильичем.
Сейчас ни одной интонацией Лев Борисович не показывает, что в свое время и он отвергал эти идеи Ленина. Да, было и быльем поросло. Зато потом он, ничуть не поступясь солидностью, заново крестился, так сказать, в ленинской купели, стал как бы ревнителем ленинской теории государства.
— Когда Владимир Ильич сказал, что трудящиеся низы сами должны управлять государством, это было в истории человечества действительно новым словом, Ленин создал эту новую теорию, конечно, опираясь на гениальное предвидение Маркса, извлек его и разработал в целую систему, воплотил в ежедневную практику управления. Вот это абсолютное доверие, эта абсолютная уверенность, что каждый чернорабочий может взяться за государственное строительство, вот это и спасает наше дело.
Вслед за Каменевым говорил Горький.
Среди слушателей находился Алексей Платонович Кауров, прибывший с Юго-Западного фронта делегатом Девятого партийного съезда, задержавшийся в Москве из-за болезни — он на пути в столицу подхватил еще гулявшую по стране жестокую хворь, что звалась испанкой, ходил, температуря, на съезд и был вдобавок наказан воспалением легких. Лишь вчера выпущенный врачами на волю, он пристроился тут вместе с другими, кому не досталось места в зале, прямо на половицах сцены близ добротно сработанной трибунки, которая — дитя революции — не блистала лаком, была промалевана немудрящей морилкой. В том же углу расположились и стенографистки, порой недовольно шикавшие на теснившихся и к их столику безместных сидельцев. Доставалось и Каурову, иногда ворочавшемуся или по живости натуры общавшемуся шепотком с соседями. Уловив идущее от столика «тс-с-с», он всякий раз картинно зажимал кулаком рот, потом просил извинения улыбкой, что выказывала чуть обозначившиеся ямочки на осунувшихся в дни болезни щеках, где, правда, уже пробивался свежий румянец, характерный для Каурова, словно добавлявший мазок наивности серьезным его чертам.
Ему здесь не привелось сбросить с плеч шинель — опоздав, он пренебрег раздевалкой, прошел напрямик, благо тут, в Московском комитете, как, впрочем, в те годы и повсюду, не было на сей счет строгостей. Примостившись на дощатом настиле, он снял изрядно мятую военную фуражку, обнажив небольшую лысинку, образовавшую на самой макушке розовый правильный кружок среди льняных тонких волос. Белесый короткий зачес странно сочетался с густо-черными, точно нанесенными углем, бровями. Так перемешались, перепутались в нем черты отца, русского полковника, и грузинки матери.
Время от времени Кауров наскоро фиксировал в записной книжке некоторые, на его взгляд, чем-либо знаменательные, сказанные с трибуны слова. Сегодняшняя его карандашная скоропись, подчас едва разборчивая, где зачастую окончания слов отсутствовали, не залежится, пойдет в дело, будет прочтена вслух сотоварищам-политотдельцам; понадобится, наверное, и для его докладов на партсобраниях в частях армии, с которой он делил и невзгоды отступления и победный путь на берега Черного моря, — завтра-послезавтра он снова укатит туда.
Придется, должно быть, и во фронтовую газету дать отчет о вечере, что называется, по личным впечатлениям. Однако это-то для него, сотрудничавшего еще в дореволюционной «Правде», разлюбезное занятие: он охотно посидит над статьей за полночь, были бы бумага, карандаш и табак!
Как и притихшую аудиторию, Каурова растрогала нескладица горьковской речи, признание: слов не нахожу, не понимаю, совершено нечто чудесное, необъяснимое совершено Лениным, редчайшим в истории человеком, которому под силу чудеса.
Опять черкнув в записную книжку строку-другую, Алексей Платонович (или, коротко, Платоныч, как в товарищеском кругу прозвали его) посматривал на Горького.
Нечто чудесное… Да, возглавляемая большевиками революция отстояла, утвердила себя в вооруженной борьбе. Поле сражения в бывшей Российской империи — еще только в ней одной! — осталось за нами, за невиданным новым государством, новым обществом. Вот заполненные сплошь ряды. Гражданская война наложила свой отпечаток на одежду. Штатских пиджаков немного. Галстуков — один, два, и обчелся. Там и сям кожаные куртки. И суконные, с накладными карманами френчи. Несколько красных косынок, повязанных вкруг женских голов, единственные яркие вкрапления. Еще не минуло и трех лет с тех пор, как Ленин вынужден был скрываться в шалаше, а ныне…
Нечто объяснимое… Нет, не по его велению произошла Октябрьская революция. История была ею беременна. Ленин это угадал, постиг. Если не танцевать от такой печки, конечно, ничего не уяснишь… Платоныч не раз в этаком духе излагал закономерность Октября в своих лекциях в армейской политшколе — он, нагруженный еще многими обязанностями, все-таки урывал время, чтобы вести там занятия.
…Место на трибуне уже занял Ольминский, давний последователь Владимира Ильича, один из старейших в этом зале. Нежно-розовая, не тронутая морщинами кожа усугубляла моложавость его лица, охваченного седой, без единого темного волоска, густой шевелюрой и вольно разросшейся столь же белой бородой.
Он, когда-то подписывавший свои статьи в большевистских газетах броским псевдонимом Галерка, теперь шутливой ноткой развеял торжественную серьезность собрания:
— Приглашение высказаться было, товарищи, для меня нечаянным, и первым чувством у меня был страх.
Шутка дошла — дошла, наверное, потому, что в ней содержалась и правда. Стенографистка условной закорючкой обозначила: смех. Вместе с другими засмеялся и Кауров.
А седовласый ветеран партии, участник множества политических драк, неизменно воевавший на стороне, как говорилось, твердокаменного большевизма, теперь, улыбаясь почти детской голубизны глазами, продолжал:
— У Владимира Ильича есть хорошие словечки. Например, хлюпкий интеллигент. Все мы, интеллигенты, действительно хлюпики, кроме товарища Ленина и некоторых других.
Каурову в тот миг подумалось: переборщил! Себя Платоныч к хлюпикам не причислял.
Тем временем оратор, отрекомендовавшийся — в шутку ли, всерьез ли? интеллигентом хлюпиком, проделал то, о чем позабыли и председатель, и докладчик, и все, кто уже выступил.
— Тут говорили, — произнес Ольминский, — что Ленин великий организатор. Я, товарищи, внесу добавление. Да, Ленин великий организатор с помощью Надежды Константиновны, своего самого…
Загремевшие отовсюду хлопки прервали речь. Все, не жалея ладоней, аплодировали. Слышались возгласы: "Надежду Константиновну в президиум!», «Надежда Константиновна, встаньте, покажитесь!» Но она, опустив голову — Кауров со сцены мог видеть ее темно-русые волосы, разделенные неглубокой бороздкой пробора, не очень приглаженные и сегодня, приметил и запылавшие, не совсем скрытые прической, ее уши, — она, опустив голову, по-прежнему сидела в седьмом или восьмом ряду. Поверх белой свежей блузки был, одет обыденный, что и на работе служил Крупской, темный, в полоску сарафан. На коленях лежали нервно сцепленные руки, давненько утратившие молодую плавность очертаний: уже пролегли выпуклости вен, угловато выдавались косточки у основания худощавых, не помилованных морщинками пальцев.