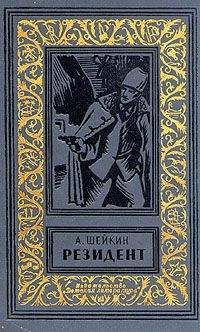— Что там случилось у вас?
Штаб-ротмистр Варенцов служил в контрразведке с тех самых майских дней восемнадцатого года, когда германские войска отрезали Область Войска Донского, где уже была установлена власть Советов, от всей страны. Красногвардейские отряды тогда отступили на север, и на Дону вновь начало править белое казачество. Он считал себя в контрразведке старожилом и очень гордился, как ему казалось, верно найденной манерой поведения: всегда быть невозмутимо спокойным.
— Четверть часа назад, — ответил он, — какой-то хулиган, по приметам совсем еще мальчик, облил ворота жидкостью, которая возбуждает собак.
Варенцов умолк.
— И это все, что вы нам сообщите? — спросил Денисов.
Варенцов едва заметно поклонился.
— Так точно, — проговорил он.
Генералы вопросительно смотрели на него. Не выдержав напряженной тишины, Варенцов продолжал:
— За время существования в городе новой донской государственности у жителей отобрано десять тысяч винтовок, пятьсот человек арестовано, восемнадцать расстреляно. Большевистское подполье в городе есть. Но к этому случаю отношения оно не имеет.
— Вы так считаете? — спросил Краснов. — Вы? Вот вы?
— Да, да, вот вы? — вмешался Богаевский.
— Вы, — Краснов повысил голос, — работник контрразведки, убеждены, что это всего лишь случай непреднамеренного хулиганства?
— Мы имеем осведомителей во всех слоях населения, — ответил Варенцов. — О любом преднамеренном действии мы бы знали заранее.
— Но ведь это происходит у ворот того дома, где мы собрались! — Краснов обратился к Попову. — Вы тоже так полагаете, генерал?
— Ротмистр ошибается, — ответил тот.
Собачий лай раздался в кабинете. Опершись передними лапами на подоконник, лаял атаманский дог.
— Фу! — воскликнул Краснов, спеша к окну.
Варенцов последовал за ним, говоря:
— Это сейчас кончится. Собак разгонят водой из пожарных насосов. Ворота обольют керосином.
Он взглянул в окно, куда смотрел дог: на дереве, всего в десятке шагов от дома, между ветками прятался мальчишка в черной косоворотке. Он с насмешкой смотрел прямо на них, в окно кабинета.
Донесся голос стражника Ярошенко:
— Куда! Куда! Вот вас сейчас керосином!
Ему ответил голос начальника караула Степанюка:
— Это ж они к атаманскому кобелю. И один-то приедет, мороки сколько: ночи не спать, — так он и кобеля тащит! И еще думает: тайно, мол, съехались!
Краснов повернулся к Попову. Щека его дергалась.
— Если секретность операции будет обеспечена так же, как секретность нашего визита в этот город, вас обоих отстранят от службы и отдадут под суд.
— Стражников, которые провели сейчас этот диалог, арестовать, — тоном сухого приказа сказал Попов Варенцову. — Всех, кто были на улице и могли слышать их, — арестовать.
Варенцов еще раз поглядел на дерево. Мальчишка переменил положение и сделался почти неразличим среди веток и ржавой осенней листвы, но лицо его все-таки выделялось довольно ясно и было оно очень знакомо по какой-то особой пристальности взгляда. Как же этот негодяй попал в скутовский сад? Скандал из скандалов!
— Вы правильно распорядились, — сказал Краснов.
«Но раз мальчишка не убежал, а остался полюбоваться, значит, он — хулиган и действовал в одиночку!» — чуть не вырвалось у Варенцова.
— Вы правильно распорядились, — повторил Краснов.
Все генералы стояли у окон кабинета, но мальчишки не замечали. Видимо, его можно было разглядеть только с того места, где находился Варенцов.
— Можете идти, — сказал Попов.
* * *
На улицу Варенцов не вышел, а вылетел. Вслед за ним выбежали все чины стражи и контрразведки, какие только находились в доме. Варенцов лично отобрал у Ярошенко и Степанюка наганы и шашки. Хуже было с толпой. Среди задержанных оказались только обслуга Скутова, и без того прекрасно знавшая о совещании, да такие люди, которых никак нельзя посадить под замок: Горинько, Варенцов-отец, Шорохов, старая барыня. Продержав их в скутовском доме, пока генералы не уехали на вокзал, Варенцов всех отпустил.
Парень в косоворотке исчез, как провалился сквозь землю. Впрочем, в том, что его найдут, Варенцов не сомневался: он много раз уже определенно видел и эти глаза, и это лицо.
Отгадка пришла быстро. На вопрос, не заметил ли он с улицы парня на дереве, Леонтий Шорохов ответил:
— Еще бы не заметить, Семен Фотиевич! Это ж Матвей — братец мой милый!
И тогда-то Варенцов понял, на кого именно был так похож парень, — на самого Леонтия Шорохова.
И он злорадно усмехнулся: насколько ж он прав, с самого начала полагая, что весь этот случай — хулиганство без всякой связи с подпольем!
У города было два конца, или, как их еще называли, два края. Степной, где в основном жили казаки и крестьяне, занимавшиеся землепашеством, державшие коров, табуны лошадей, овец. Сразу за околицей тут начиналась раздольная степь, и где-то там, далеко-далеко за горизонтом, пролегла серебряная лента Дона.
В степном краю, возле станции железной дороги, находился центр города, его главные улицы: Донская, Московская, Широкая, Думская, застроенные особняками шахтовладельцев, богатых купцов — торговцев зерном и мясом, гонявших гурты в Москву, Петербург, Нижний Новгород. Зелень садов разделяла эти дома.
А другой край назывался шахтным. Здесь над землянками, бараками, мазанками возвышались конуса терриконов — гигантские кучи вынутого из глуби недр камня — да похожие на скворечни, величиной с дом, копры угольных шахт: Пашковской, Шурилинской, Цукановской, РОПИТА — Русского общества пароходства и торговли.
В этом краю круглый год пахло серой от тлеющих терриконов. Бараки и домишки стояли черные, словно обугленные. Узкие, кривые, размытые дождями и талыми водами улицы переходили в балки. Кроме терриконов да шахтных копров, все тут жалось к земле: и дома, и низенькие заборы из плитняка, и редкие кусты чилиги — желтой акации, и полузасохшие от серного дыма деревца шелковицы и вишни, и поэтому сюда нельзя было прийти незамеченным, любой человек еще издали оказывался виден за всеми этими заборами, землянками и сарайчиками.
Был конец дня. Мужчина лет сорока пяти, одетый в латаную-перелатанную брезентовую робу, бородатый, с шапкой черных волос, закрывающих лоб, с обушком на плече, с горняцкой лампой у пояса, опустив плечи, устало шел шахтерским краем.
У одной из калиток в Сквозном переулке он недолго постоял, хмуро и недовольно оглядываясь, как человек, возвращающийся с работы в плохом настроении, толкнул калитку, прошел двориком к низенькому домику в два окна, без стука, как хозяин, распахнул дверь. В передней остановился, прислушался. За второй, внутренней, дверью разговаривали женщина и парень.
— Смотри какой! — говорила женщина. — Еще и посмеивается. Чем мазал-то?
— Сало такое, — нехотя отвечал парень.
— Где ж ты его достал?
— У цыган сменял. Они его волчьим зовут.
— И зачем оно им?
— Собак уводят. Намажут сапоги, по поселку пройдут…
— В промен-то чего отдал?
— Да наган.
— Ой, Матюха, как же это ты?
— А у меня их еще десять. На поле за каменоломней сколько хочешь можно найти. И винтовки, и наганы, и патроны. Красновцам их, что ли, сдавать?
Мужчина расправил плечи, поставил обушок в угол и толкнул дверь.
— Здравствуй, Анна Андреевна, — проговорил он, перешагивая порог и протягивая руки к седой женщине, сидевшей у стола на табуретке.
Парень метнулся в соседнюю клетушку, за ситцевую занавеску.
— Стареть стал, — продолжал мужчина, — подхожу к дому, сердце колотится: вдруг да с тобою что?
— А я тебя, Харлампий, давно разглядела, — ответила женщина, вставая навстречу ему. — Ты еще к переулку подходил. Я слежу…
Была она когда-то высокая, а теперь сгорбившаяся, и когда она поднялась с табуретки, это стало особенно заметным.
— Тихо пока все, — сказала она. — Только посомневалась: идешь вроде ты, а с обушком? Уж не в забой ли подался? Машинисту зачем обушок? Сроду ж ты с ним никогда не ходил.
— Патрулей — на каждом углу, — Ответил Харлампий. — Объясняй: кто да что. А с обушком идешь — и не подъезжают. Новых чего-то казаков в городе много стало. — Обернувшись в сторону занавески, он сказал: — Да выходи ты, Матюха!
Из-за занавески вышел парень в черной косоворотке, в сапогах гармошкой.
— А я-то гадаю: кого принесло, — кривясь в усмешке, начал он. — Здравствуйте, дядя Харлампий!
— Здравствуй, герой! Чего ж это от людей прячешься? Или натворил что?
— Натворил, — ответил Матвей с вызовом. — Да тут любой натворит: вся семейка такая! Где уж мне от своих отставать? Батя в церкви в первом ряду стоит. «Дожил до почета, — говорит, — слава тебе, господи! Сын в люди вышел». А сынок любимый где-то капитал хапнул, может, убил кого, а теперь вон оно — и близко не подойди: мясоторговец Леонтий Шорохов! Семена да Фотия Варенцовых лучший дружок!.. Вчера меня с наганом накрыл, разорался: «Выпорю!..» Я б ему устроил! Для того и волчье сало от цыган нес. Жалко только, что все его на скутовские ворота вымазал.