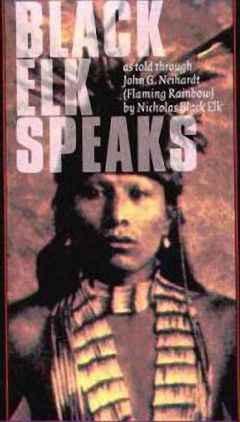Ужинали Пустобаевы в летней кухоньке. Горка отказался от щей, выпил стакан молока и начал с бритвой и зеркалом устраиваться возле лампы. Мать, постно поджав губы и скрестив на плоской груди руки, стояла у плиты и ждала, когда отужинает муж, чтобы нести самовар со двора.
Но Осип Сергеевич не спешил. Он любил, чтобы во щах была косточка. А коль есть косточка, то ее можно обстоятельно обсасывать, так же неторопливо хрустеть хрящиком и не забывать вести нравоучительную беседу с женой и сыном.
— Значит, на вечер собираемся, Георгий Осипович, на выпускной? И, стало быть, бесповоротно решено остаться здесь, то есть в колхозе? Тоже, понимаешь, похвально! Однако все трое вы — дураки, как у вас там, дураки в квадрате, в кубе, да, в кубе. Ладно, Нюрка, как вы ее там, Нюрка-расколись, ей простительно: волос длинен... и так далее. А вас с Андреем следовало бы настегать по заду, следовало.
Осип Сергеевич старательно вытер пальцы о полотенце, дотянулся до лампы и привернул фитиль, скупо, по-хозяйски экономя керосин. Горка уже трижды порезался безопаской, а теперь ему и вовсе не виден был подбородок. Но смолчал.
— Арришенька! — вдруг зычно, как команду, выкрикнул отец.
— Ты что, Сергеевич, так блажишь? Ай не видишь?
— Становь самовар!
— Кричит — инда иконы со стен валятся.
Чай Осип Сергеевич тоже пил долго и с удовольствем, держа блюдце на растопыренной пятерне. Только, кажется, эти долгие обеды и ужины не шли ему впрок.
Был он до крайности поджар, на его впалых щеках и висках всегда копились тени, подчеркивая блеск лихорадочно подвижных глаз.
С улицы донесся свист. Горка поспешно ополоснул лицо из кружки, метнулся к двери.
— Иль собачьей породы? — Осип Сергеевич подтягивал к себе восьмую чашку чая.
Тенью выскользнула вслед за сыном Арина Петровна, ласково окликнула:
— Горынька!
Сын остановился, окинул глазами сумеречную улицу. У калитки стояли двое. Мать подошла, притянула его голову к себе и чмокнула в лоб сухими губами, мелко перекрестила:
— Дай тебе бог счастья!
На заднем дворе шумно вздохнула корова, а Горке показалось, что это Андрей на улице демонстративно вздыхает. Зло сомкнув зубы, рванулся к калитке. Петровна поджала губы, но не обиделась: сын всегда был неотзывчивым на ее ласки. И еще был он неразговорчив, всегда себе на уме. Петровна втайне гордилась: уж этим-то в нее выдался! Осип Сергеевич сидел в кухне и вел с котом вдумчивую беседу:
— Нет, ты понимаешь, Васька, какая история! Написал я приятелю в юридический, договорились честь по чести: поможет Георгию устроиться на учебу. А Георгий Осипович, сын кровный, выпрягся: никуда не поеду, останусь в колхозе! Это резон, я тебя спрашиваю?! Ни шиша ты, Василий, не понимаешь. Дураки вы оба. — Осип Сергеевич пнул кота и вылез из-за стола.
Андрей, Горка и Нюрочка-расколись бежали в ночь. Напрямик. Падали через канавы и ямы, хохотали и снова бежали — до обрыва. Внизу волны укачивали оприколенные будары. Мягко распластавшись на стремнине, недвижимо лежал туман. На том берегу коромысло Большой Медведицы почти касалось черных верхушек деревьев, обещая скорый рассвет.
— Какая большая-пребольшая тишина, — сдерживая дыхание, прошептала Нюра.
— Как на уроке директора.
Минутное оцепенение прошло. Всем троим было немножко жарко от произнесенных на выпускном вечере речей.
— У меня такое... такое настроение! — саженный Горка в жажде подвига выбросил руки вперед. — Я...
Зашуршала, осыпаясь, земля, булькнуло несколько камешков.
— Обрушится яр! Привалит.
— Пока что нас, Нюра, ни вода, ни земля не примут — нет расчета. Не-це-ле-со-образно!
— Мальчишки, идемте на бударе кататься! Такая ночь...
Крутая тропка виляла меж глинистых глыб. Держась за руки, спустились к отмели. Постояли, слушая рассвет. Под замшелыми днищами будар поскрипывала галька, а волны, ласкаясь к бортам, точно уговаривали: спите, не плачьте, рано еще!
Горка прошелся вдоль лодок, погремел замками — все будары на приколах. Андрей выбрал потоньше врывину, взялся раскачивать ее: дескать, была — не была, сегодня все прощается! А Нюре подумалось: какой он широченный и сильный...
Горка сел на весла, Андрей на корму, а Нюрочка устроилась на средней доске. Едва остроносая бударка сошла с отмели, как невидимое речное стремя подхватило ее и понесло. Белая водянистая пыль легла на лица и руки мокрой паутиной. Даже рядом с бортом ничего не видно. Будара то неожиданно ударялась о плывущее бревно, то начинала кружиться, попав в «котел». Совсем близко выворачивался и пугающе шлепал трехпудовый сом.
Было красиво и как-то страшновато мчаться в белой тьме тумана, слышать редкие всплески весел, бульканье стекающей с них воды.
— Мальчишки, где вы? — радостно и словно бы издалека окликнула ребят девушка.
— Здесь, Нюра. — Горка перестал грести и сунул руку в волглую пустоту. — Вот...
Их руки встретились. Горка робеюще сжал прохладную маленькую кисть Нюры и не выпустил, когда девушка нерешительно потянула ее к себе. Он, пугаясь своей смелости, чувствовал, что делает что-то не то, что это вовсе не похоже на их обычные рукопожатия в школе, да и рука у Нюры точно бы другая: слабая, робкая. Сглотнув от волнения, он петушиным фальцетом выпалил:
— Рука у тебя — как воробышек!..
Она выдернула ее, за туманом Горка не видел Нюриного лица. «Мы стали взрослыми, — подумал Андрей, — и нам все с непривычки кажется иным».
Подхваченный ветерком туман пополз на низкий левый берег реки, запутался, растерял в кустах серые клочья. Лодку влекло по вишневой густой воде. Андрей встал.
— Ребята!
Над рекой прокатилось эхо.
— Даже природа не любит громких слов. — Сказал тише, значительнее: — Пусть это будет неоригинально и высокопарно, но я предлагаю... Знаете, я предлагаю дать вот здесь, дать клятву всю жизнь быть честными людьми, никогда не кривить душой.
— Клянусь! — Девушка поднялась, строгая, непохожая на Нюрочку-расколись.
— Клянусь! — выпрямился и Горка.
«Клянусь!..» — «Клянусь...» Все дальше катилось слово, все тише долетало оно сюда, будто за рекой и за лесом многие их сверстники повторяли клятву.
3
Отец и мать Андрюшки, облокотившись на жердяные воротца, смотрели, как по уличной дороге уезжали на велосипедах их сын и соседский Горка. Андрей ехал спокойно, а Горка сутулился и все вилял: мешали ему длинные ноги. Обычный велосипед для них был мал. Парни выехали за поселок и нырнули в прохладный утренний подлесок. На слоистой дорожной пыли остались два плетеных следа: один прямой, словно отбитый шнуром, другой — вихляющий.
Елена Степановна еще некоторое время щурилась на повитый дымкой тумана лесок, укрывший ребят, вздохнула и усталым, притухшим взглядом окинула мужа с головы до ног.
— Третьеводни сменился, а уже выпачкался — мазут капает. Чисто не ты на тракторе ездишь, а он на тебе. На одного не настираешься, а тут еще и Андрюшка... Нет бы в какой институт ехать, с медалью-то.
Иван Маркелыч легонько обнял ее худые плечи, коснулся губами щеки.
— Ничего, Еля, у тебя уж помощница большина-то вон какая! Спит?
— Спит, — чуть улыбнувшись, она кивнула на мазаную крышу чулана: там, натянув байковое одеяло до макушки, спала двенадцатилетняя Варя.
— Балуешь ты ее, мать. Солнце в полдерева, а она все вытягивается.
— Пускай. — Опять окинула взглядом его пропыленную, в жирных маслянистых пятнах одежду. — Корыто со стиркой не уйдет от нее. Пускай, пока при матери...
И снова в ее пепельных глазах отразилась то ли беспредельная усталость, то ли горечь от трудно прожитой жизни. Иван Маркелыч заметил эту тяжелую опустошенность ее взгляда, и в его груди будто еж ворохнулся. Когда в сорок третьем вернулся из госпиталя кое-как подлатанный, увидел: его Еля состарилась на добрый десяток лет. Женщин рвала непосильная работа, старили думы о тех, кто воевал. А Еля незадолго до его приезда похоронила старшего сынишку, отравившегося кашей из колосков, собранных в поле весной... Потом... Потом — тоже разное было... А вот сейчас вроде бы и достаток пришел в дом, и дети подросли, да только радует ли ее это? Неужто навсегда прахом равнодушия и усталости присыпаны эти когда-то ласковые и голубые-голубые глаза? И это всего-то в пятьдесят лет!
Широкой, как штыковая лопата, ладонью Иван Маркелыч неумело погладил ее поредевшие седые волосы, а она, смутившись этой необычной мужниной ласки, чуть отстранилась, оглянулась по сторонам.
— Будет тебе, люди кругом...
— Пусть смотрят! — В живых карих глазах — озорство. — Ты мне жена, а не забавница. Воды нагрела, Ель? Отмоюсь — да спать. Уработался за ночь.
И уже по пояс голый, блаженно фыркая под горячей водой, которую лила ему на спину и голову Елена Степановна, продолжил начатый у ворот разговор: