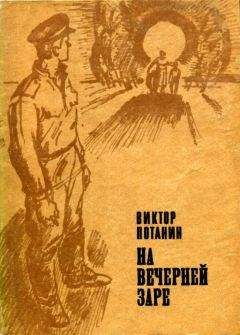В начале лета Кате делалось лучше. В жару боль утихала. Стеша теперь успокаивалась и спала спокойно и даже смеялась с соседками над какой-нибудь ерундой. Катя наблюдала издали, удивляясь ее простоте.
В купе вошла женщина, их третий спутник. Она была очень худа, с сухими подвижными локтями, с источенным оспой лицом. И сразу спросила:
— Катенька, яблоко не откусишь? Я тут купила, да уж на год наелась.
— Спасибо.
— Че спасибо. Дают — бери. Чужое — не купленное.
Миша хмыкнул, подбородок зашевелился. Почуяв недоброе, женщина обернулась:
— Мы к морю с болезнями, а ты зачем? Дико мясо ростить?
— Военная тайна, мамаша. А незнакомым говорят «вы», — вспылил Миша и скрылся за дверью.
— Обиделся, гусь, — женщина взглянула на Катю и улыбнулась. Улыбка вышла медлительна и умильна. Так многие смотрели на Катю. С блестящими от болезни глазами, с высокой шеей подростка, уже не девочка, но еще не женщина — и эта незаконченность в Кате особенно волновала, заставляя думать о чем-то милом, несбывшемся, но все равно мучительно своем и счастливом. Она еще не понимала значенья этих взглядов, улыбок, потому прятала глаза и бледнела.
Катя ехала из города, стоящего у ворот Сибири. Город маленький, но шумный, подвижный, и, как у всяких ворот, здесь было много людей ждущих, тоскующих на перепутье жизни. Одни ехали дальше на стройки к таежным соснам, другие двигались к центру, а третьи на юг — к теплу. Особенно мучились молодые — дорог много, а жизнь одна, но для Кати уже не было ожиданий, болезнь отучила верить в хорошее, в перемены, и отодвинула от людей. И Катя привыкла к такой жизни, и к болям в сердце, и к робкой доверчивой матери, и к шумному крикливому городу, и к единственной подруге Симе, страдающей от лени и полноты. Но однажды заехал к ним дальний родственник, веселый и грубый мужчина с раскосыми сухими глазами, в которых таилась не то усмешка, не то лукавство, намекающее на какое-то продолженье, но глазным был голос — доставал на всю улицу и смутил жизнь. Двоюродный дядя поцеловал Катю крепко, с удовольствием, в губы и в обе щеки и стал шутить, без причины смеяться, и за столом сидел опять шумно и весело, а хлеб откусывал от целой буханки и глотал быстро, будто голодный, от молока отказался сразу, но попросил вина. Во все углы вошел его голос, раскатистый, трубный, от него стало радостно, жутко, как во сне.
— Стеша-а, не томи! Из-под коровы не пью. Погорячей — младенцу!
Мать достала бутылку красного, они выпили все втроем по рюмочке, заели конфеткой, и дядя опять стал рассказывать очень смешно, раскатисто, как долго ехал в их город, как в поезде чуть не женился на проводнице, но вспомнил вовремя про свою Капочку, свою благоверную, и сразу стал послушным мужем на расстоянии, потому теперь ему нет цены и грех не выпить.
Что говорил тогда, почти забылось, а сам не забылся. А жил он на юге, у самого моря, где все болезни сразу сгорают.
— К морю надо, мила сестра. К морю — Катю! — шумел его голос, советуя погреться возле живой воды, поплавать, на веселых людей поглядеть и влюбиться в кого-нибудь, пусть немного, но все равно — хорошо для здоровья, и в этом месте он так весело смотрел в нее, цепко, что она леденела от страха, от того, что он догадался о самом главном и стыдном, и теперь, поди, смеется над ней, такой больной и ненужной.
— Ох, глаза-а! А ну-ко, ну-ко в другой раз поцелу-ую. Привыкай, Катька-а! — кричал он и лез опять целоваться, и у ней не хватало сил встать со стула.
Как все люди в начале жизни, Катя искала в любви только слов, только признаний, ее пугали даже издали крепкие мужские пальцы, а если смотреть на них долго — делалось плотно в горле и тяжелели ноги, и она замирала от стыда за себя, боясь жизни, и тянулась к стихам. Они писались легко, одним взмахом, но потом хотелось порвать их, спрятать, опять содрогалась от своей испорченности и чувствовала тяжесть ночной рубашки, — запиралось горло, и она не могла проглотить слюну. Часто заходила в аптеку, подолгу стояла у витрины, где продавались интимные предметы для женщин, боясь, что за ней подглядывают, — и очень болело сердце.
А под вечер их поезд увидел Керчь. Рядом дышало море. Оно слышалось в теплом ветре, в сухой горечи на губах. Кто-то первый сказал: «Пахнет морем» — и сразу многим почудился в воздухе привкус соли, стали облизывать губы, много курить и пить пиво, и Катя тоже услышала запах волны. А скоро над горизонтом потемнела полоска неба, ожила, задвигалась и стала светлеть. Высокий старик у окна сказал, позевая:
— Вроде Азовское.
И Катя вздрогнула, испугалась:
— Вы про море?
— Аха. Справа будет Черное, а слева Азовское, нас-то по косе повезут, а потом на пароме.
«Как — на пароме?» — радостно подумала Катя, притихла, стала всматриваться в ту полоску, которая двигалась все ближе и оживала в синюю подвижную воду, почти слепящую от заката. Вспомнились слова Миши про море — синюю воду, их спокойный ленивый смысл, вспомнились его губы и женские локти, все его приставанья, и таким далеким, до восторга ничтожным стал этот парень, что показалось: может, и совсем не было его на свете. Но он жил рядом, — сразу же услышала его дыханье, и Катя оглянулась, еще не веря. Но то был Миша, опять курил сигарету, косился на Катю.
— Вода, вода, кругом вода, — сказал он громко, насмешливо, и она закусила губу, боясь закричать, разреветься. Но он отошел в глубину вагона и открыл окно. Запахло ветром.
Поезд шел медленно, колеса еле провертывались и не стучали об рельсы. Посвежел воздух, стал влажным. Старик застегнул пижаму до подбородка, стихли солдаты. Один Миша расхаживал по коридору, посвистывал, щурился, и Катя подумала: хорошо бы теперь оказаться одной. Она отошла к дальнему окну, но за спиной снова задышал Миша, и в ноздри ей бросился сигаретный дым.
— Хочу быть рядом в исторические минуты.
У нее побледнели щеки, и плечи брезгливо сжались, но снова сдержалась. Миша что-то еще бормотал, опять дымил и принимал позы, но она решила забыть о нем — и сразу забыла. Поезд пошел совсем медленно, тяжело загудел. На кольях у воды висели сети, рядом с поездом ехала телега, там сидела женщина без платка и стегала лошадь. И женщина, и лошадь, и ребятишки, бегающие возле сетей, видно, забыли, что рядом море — так просты их были дела и обычны. Это равнодушие пугало Катю и даже злило. Она высунула в окно голову: пахло песком и чем-то горьким, наверное, дымом. Катя напряженно дышала и вглядывалась в море. Оно было тихим, только у берега слабые волны. Зато вдали вода вся ровная, чуть рябая от солнца. Возле Кати оказался тот высокий старик, который первый сказал про паром, и сейчас снова удивил Катю:
— Купаться нынче нельзя. Нынче мертвый сезон...
— Почему? — всполошилась Катя.
— Акулы пришли, всех едят. Особенно девушек...
— Неужели едят? — И Катя испуганно поправила волосы и взглянула ему прямо в глаза, но он уже хохотал, живот его весело вскидывался, и ярко горели зубы, еще молодые, ровные, — и Кате тоже стало забавно и весело, и она засмеялась, сразу полюбив старика. Но он уже задумчиво щурился, лицо после смеха было усталым, землистым. Голос тоже уставший.
— Каждый год езжу, а не привыкну. Вода ведь, всего только вода. А что она с нами делает! Жил бы да жил, ни о чем не тужил.
И он пошел вдоль по коридору, сутулясь, сильно покачиваясь на слабых, видно, больных ногах. Поезд подошел ближе к берегу, и волны стали заметней. И Катя сразу вспомнила свою речку, маленькую мутную речку. Она текла прямо по городу и делила его на две части: старый и новый город. На одном берегу стояли дома деревянные, на другом — каменные, белые с чистыми твердыми тротуарами. Вода в речке была вечно мутная, несла в себе стружки, обрезки с ближней фанерной фабрики, а весной в распутицу затопляла прибрежные улочки старого города и тащила с собой солому, корье, опять стружки, опилки и нехорошо пахла гнилью и какой-то подвальной плесенью. А потом стихали все запахи, вода сбывала, уходила в ближние озерки и озера возле городской окраины, и снова речка делалась маленькой, тихой и совсем грязной. И теперь Кате нестерпимо захотелось увидеть ту речку, пусть грязную, пусть бесприютную, но все равно родную. Возле речки ходила сейчас печальная Стеша — ее мать, самый дорогой человек. И сейчас, вблизи моря, хотелось долго думать о матери, жалеть и любить ее по-особому, но чем больше она стремилась думать о матери, тем дальше, все дальше уходила мать от нее, и нельзя было ее задержать. И скоро эта мысль совсем пропала, рассеялась, и Катя опять потянулась глазами туда, где тихо шевелилось возле берега море.
Поезд пошел еще тише. Было похоже, что он стоит, но волны медленно двигались, а рядом уже торговали рыбой, креветками, виноградом. Поезд дернулся и остановился. Наступила долгая гудящая тишина, над кольями, где были сети, кричали чайки. И опять пришла радость: чайки были такие же, как дома, так же кричали.