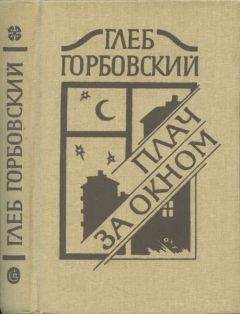Но бог с ней, с историей. Вернемся на дорогу. Освоился я ка ней довольно скоро. Притерпелся, перестал суетиться. Сосредоточился на неизбежном, то есть — на движении. Приобщился к потоку. Но вот что замечательно: абсолютного покоя не обрел. А ведь запредельный покой не только подразумевался, его обещали даже медики. Мешали неизжитые привычки, пристрастия, почвенная отформованность духа. Например, я еще долго озирался, привыкая к незнакомому ландшафту, ища в расстилавшемся пейзаже узнаваемые контуры. И ежели обнаруживал в чем-то сходство с пережитым ранее — потихонечку ликовал, пряча улыбку в кулаке.
Глаза мои искали растительность и не находили ее под ногами. Деревья торчали где-то по краю дороги (другого ее края за спинами толпы не было видно).
Прежде, до того как очутиться на шоссе, из всех земных даров природы более прочего любил я деревья и, естественно, первыми пожелал их увидеть в необычных условиях шествия. Но теперь это были не березы, не сосны-елочки, не осины — это были деревья незнакомых пород. Может, где-то возле экватора и встречаются подобные виды, только я на экваторе никогда не был и ничего аналогичного, в смысле растительности, прежде не наблюдал.
Здешние деревья росли по краям дорожного монолита, их можно было трогать руками, обнюхивать, но, скажем, залезать на них или хотя бы повисать на их ветках в петле не было принято. И не потому, что неэтично (никаких запретов на дороге не практиковалось, все условности были изжиты), а потому что безнравственно. Беззащитность деревьев здесь, на дороге, проявлялась особенно отчетливо и прежде всего в податливости древесины. Деревья были мягкими на ощупь. Как человеческие тела.
Почва, на которой укоренились деревья, напоминала болотную травянистую топь, но пропитанную не жидкостью, а песком и дурно пахнущими газами, и не потому ли с дороги никто никогда не сворачивал? Во всяком случае — не без этой, чисто внешней причины.
Сразу необходимо сказать, что направление у всех идущих было одним-единственным, а именно — вперед, в сторону вечного покоя, по другим сведениям в сторону развилки, где расположен некий распределитель: кого куда. И распределяли, дескать, по справедливости, по заслугам, а не по знакомству. Встречь потоку никто длительное время не шел. Некоторые пятились, как бы от пышущего жаром костра, или стояли на месте, а то и сидели, отдыхая по привычке, хотя усталости никто уже не ощущал.
Сидели, как правило, возле какого-нибудь местного события — скажем, возле немокрого дождя или возле падающего бутафорского снега. Эти и другие природные явления, рожденные людской ностальгией и воображением, происходили в специально отведенных местах или «квадратах» шоссе: кому ливень, кому пыльный смерч, а кому февральская восточноевропейская пурга — своеобразные, без материальной заинтересованности, клубы по интересам.
Если не считать мягкотелой растительности, как бы конвоирующей движение, никакого ландшафта за пределами дороги не просматривалось. Небо исправно поило взгляд бездонной синью. Ночью на нем было много звезд, однако привычных взгляду созвездий не наблюдалось. Ни о чем таинственно-запредельном, космически-непознанном окружающая обстановка не говорила. Недаром на всем протяжении многодневного пути не покидало меня ощущение, что иду я не где-то в облаках воображения, но, как всегда, по земле, по какой-то очень древней дороге, затерянной, скажем, в пустыне Сахара или в «песчаных степях Аравийской земли…»
Идущие по дороге люди да и все остальные существа делились на три отчетливо различимые категории, как бы на три самостоятельных течения, растворившихся в одном общем потоке. Внешне — это как бы трехцветье одного флага: полоска зари, полоска ночи, полоска зелени земной. Ясноликие, отрешенно-спокойные дети добра, мрачные, изъязвленные искушениями «цветы зла» и самая многочисленная прослойка — незрелые человечки вроде меня, стан колеблющихся, не сделавших выбора, не принявших окончательно той или иной стороны.
Для меня, человека с неиссякшей любознательностью, многое на дороге было в диковинку: удивляло отсутствие усталости и прочей «чувствительности», поражало наличие аппетита, постоянное желание что-нибудь съесть, схрумкать, проглотить при полном отсутствии «продуктов питания». Повторяю, алчность сия наблюдалась только у таких, как я, неопределившихся. Светлые, а также мрачные существа голода не испытывали. Обходились. Первые — должно быть, восторгом, вторые — неутолимой печалью.
Чувство голода усугублялось отсутствием зубов. Зубы на дороге — и не только у меня, и не только зубы, но и ногти — выпадали, будто иглы у посленовогодних, помоечных елок, — от малейшего резкого движения.
По неопытности некоторые из «зеленых» покушались на придорожную растительность, но у них тут же начиналась многочасовая неукротимая рвота, сопровождавшаяся корчами. Однако никто не умирал.
Есть было не обязательно. Даже не нужно. Правда, унизительное чувство голода порой низводило взалкавшего до положения рыскающей собаки, и потому людей незрелой категории отличить от остальных было легче простого: они постоянно что-нибудь жевали, и чаще всего… палец своей руки. То есть имитировали прием пищи. Точно так же, как грудные младенцы налегают на резиновую плоть пустышки.
В общении тянуло к себе подобным — к людям русской национальности. Как в больнице, когда, к примеру, если у вас камни в почках, то и заговариваете вы прежде всего с почечниками, а не с чесоточ-никами или туберкулезниками. Вот и здесь, на дороге, для начала решил я свести знакомство с человеком, напоминавшим мне соседа по петроградской коммуналке Митрича, — он очумело сновал в дорожной толпе на старческих, деформированных ножках и, как бы радуясь этой возможности безнаказанно сновать, жевал палец и суетливо заглядывал в посторонние глаза в надежде пообщаться.
Человек этот, невысокого роста, с шарообразным животом и такой же головой, с шарообразными ягодицами, выпуклыми икрами ног и покатыми, шарообразными плечами, весь как бы состоявший из шаров, носивший широченные штаны с подтяжками красного цвета и ситцевую рубаху с выцветшим рисунком, словно забывший где-то впопыхах свой пиджачок и теперь на дороге разыскивавший его усердно, как заблудшую душу, — человек этот жизнерадостный оказался знаменитым некогда коллекционером антиквариата Евлампием Мешковым, древним, девяностолетним стариком, «зарезанным», по его словам, врачами одной московской больницы накануне своего девяностолетия.
— Понимаешь, сынок, — попытался он с ходу растолковать мне причину своего недовольства московскими врачами. — Прихватило у меня брюхо. С кем не бывает? И допрежь прихватывало. Покушать я любил. А туточки — бац! Не по себе вовсе, паморки отшибло. Очнулся — глядь, уже операцию сделали. Безо всякого спросу. Оклемался малость, интересуюсь: для чего сделали? Говорят: подозрение на аппендицит — вот и вскрыли. А кому, как не мне, знать, что аппендицит у меня еще до революции вырезан, когда я матросом на броненосце «Инфанта Марфа» служил. Небрежно, братцы, работаем, вот оно что получается. Одно дело — я, старый пень со своей кишкой, а ежели так вычислительную машину ковырнуть, которая атомную ракету на цепи держит, стережет, а? То-то и оно. Предыдущего шва, хирурги хреновы, не заметили. А через неделю мне хуже и хуже. Не только свежий шов не затягивается, но и давнишний, судовым врачом нанесенный, разошелся. А в итоге: шкандыбай, Мешков, по шоссейке. Такая коллекция дома без хозяина осталась! Хорошо, если государство оприходует, а ну как сродственники накинутся. Ей ведь не только цены — умопостижения подходящего нету!
Старик почему-то уцепился за меня. Чем я ему понравился — ума не приложу. Коллекционной страстью никогда я не страдал, поесть не любил, закусывал чаще всего «рукавом», аппендикс мне так и не вырезали. Вот разве что… под одним небом цвели?
— Сынок, а пожевать у тебя ничего не найдется? — безо всякой надежды в голосе обратился ко мне старик Мешков.
В верхнем кармашке моего зачуханного блейзера с женскими блестящими пуговицами (этот знаменательный пиджачок для меня не просто вещь, но — подарок жены и еще символ, ибо в нем я принял смерть — правда, как выяснилось позже, всего лишь клиническую), в котором я в свое время, перед позорным увольнением из школы, преподавал детям историю Древнего Рима; так вот, в кармашке этой суконной реликвии имелась у меня застарелая, окостеневшая полоска жевательной резинки, которую лет пять тому назад отобрал я у шкодливого, постоянно жующего, трескучего подростка Куковякина. И вот теперь, на дороге, поразмыслив, извлек я заморское лакомство и по-братски поделился окаменевшей пустышкой со стариком коллекционером.
«Деду хоть и много лет, а гляди какой круглый да крепкий, будто репа! Вдруг да и пригодится знакомство, — соображал я на ходу. — Тем более что никто здесь, на шоссе, старше себя уже не делается. У такого старичка, помимо знаний, большой опыт общения с людьми. Отщипну-ка я ему половинку жвачки».