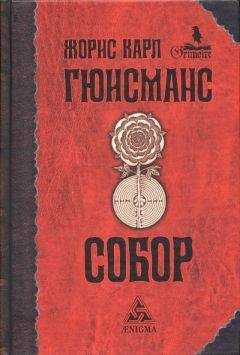Пушкин лежал на лавке в бреду. Лихорадка трепала его уже вторые сутки. Неосторожно выкупавшись как–то под вечер, он, как говорится, простыл. К ночи особенно стало нехорошо, тревожные видения его беспокоили.
Сначала все было простым повторением действительности, как он недавно ушел гулять на Мандрыковку и увидел, раздвинув кусты: от острога бегут два человека, громыхая общею цепью. Берег недалеко, и он вместе с Никитой, который, заждавшись, здесь его отыскал, — оба услышали звук от падения тел, с высоты бултыхнувшихся в воду, и тотчас увидали, как быстро поплыли, дружно ударяя ногами, прикованные друг к другу беглецы. Но вслед за тем оказалось внезапно, что совсем не разбойники, а это он сам — он сам и Никита, — бежав из острога, сидят, поджав ноги, на песчаной отмели острова. Ноги его ноют от сбитых оков. Он задыхается от напряжения: и страшно и радостно вместе. Погоня близка, но он не допустит их до себя! И — открывает глаза: тюремщики близко, они стоят перед ним…
Нет, не тюремщики: двое военных!
Обеспокоенный, но все еще полусонный Никита зажигает огарок сальной свечи, бегут по стенам торопливые гигантские тени. Кажется: сразу вошло много людей; бред продолжается… Пушкин проводит рукой по глазам: Раевские! И при бледном мерцающем свете видят Раевские: ка голых досках, полуподнявшись, опершись в изголовье на локоть, небритый, худой и изможденный Пушкин глядит на них не шевелясь. На пустом столе перед ним кружка воды, сахар, лимон.
— Он, кажется, болен и бредил, — говорит генерал. — Растереть его спиртом! Наверное, это простуда.
Николай бросается к другу и берет его за плечи.
— Ты узнаешь меня, Саша?
От порывистого движения шинель сползает с плеча и падает на пол. Никита неспешно подходит и поднимает ее.
Пушкин минуту молчит. Ему кажется, что только теперь он все понимает как следует. Раз они вместе… так кто же может их разлучить — раз они вместе… бежали — и он и Николай? И, как бывает только в бреду, когда он еще не вовсе покинул, а сознание все же вернулось, — Пушкин шепчет уже об этой счастливой действительности:
— Ну, что ж, говори! Вышло? Все вышло? Младший Раевский кивает ему утвердительно.
— Так, значит, теперь я на свободе?
И он пытается уже улыбнуться, и голос еще немного дрожит, но в нем уже различима шутливая нотка:
— Кажется, я на сей раз… Действительно, кажется, я убежал! Здравствуйте, Николай Николаевич, как я рад наконец вас увидать!
Генерала Раевского Пушкин привык почитать еще с детских лет, и теперь он был истинно тронут, что тот сам пришел с сыном в эту лачугу: и к кому? — к опальному юноше! — и в столь поздний час!
— Как вы нашли меня? Никита, дай стул!
— Не сразу нашли. Нам все называли какую–то Мандрыковку.
— А! Там я гуляю всегда, и там привыкли видеть меня. А ночую здесь, в Цыганском Куту. Но как же мне вас принимать? Нет стульев!
Стульев действительно не было. Дорожный сундук да табуретка — вот и вся обстановка. Генерал улыбнулся.
— Вы здесь, как видно, совсем по–походному. Я пришлю вам сейчас нашего доктора.
— А я уж здоров! Вы меня вылечили одним своим появлением. Да когда вы приехали? И где же остановились?
— Погоди, Александр, хорошо ль тебе много так говорить? Остановились у губернатора.
Пушкин живо обернулся к Николаю:
— У Карагеоргия? Знаю. У него на щеке бородавка.
— А приехали вечером, час назад.
— И прямо ко мне?
И, сунув ноги в туфли, схватив Николая за рукав, как за ветку в лесу, чтобы быстрей подтянуться и встать, Пушкин вскочил, подбежал к генералу Раевскому и крепко пожал ему руку.
— Рука горяча, — отвечал генерал на приветствие. — Но ничего, будет все хорошо. Вам надо выпить чего–нибудь теплого. Мы поставим вас на ноги, и вы поедете с нами.
А на Кавказе и вовсе поправимся. Я говорил уже с Иваном Никитичем Инзовым, он вас отпускает со мной. Пушкин едва удержался, чтобы его не обнять.
Доктор — высокий, худой, с узким разрезом внимательных глаз — был поутру поражен, увидев ночного своего пациента. Пушкин, побрившись, пришел к Карагеоргию, был весел, даже шумлив; правда, несколько бледен, но шутил и болтал без умолку с младшим Раевским.
— Ах, Николай, — говорил он ему, сидя за завтраком. — Я никогда не забуду этой услуги твоей, вечно, поверь, для меня незабвенной. Ведь когда бы не ты, здесь бы сидеть мне без дела и без людей и глотать эту пыль.
Пушкин немного знал в Петербурге Раевскую–мать и старших ее дочерей — Екатерину и Елену. Екатерина Николаевна была настоящей красавицей, и Пушкин по ней тайно вздыхал. Но очень запомнилась ему и Елена. Однажды ему довелось застать их обеих у Василия Андреевича Жуковского. Елена сидела с матерью на маленьком полукруглом диване. Рядом с нею в небольшой пузатенькой кадке высился молодой кипарис, привезенный кем–то Жуковскому в подарок с Афона. Пушкин очень любил это деревцо и не раз, полушутя, удивлялся, почему это в древней Греции венчали не кипарисом, а лаврами… И он унес с собою это видение: стройная юная девушка и такой же рядом с ней кипарис.
Он и тогда еще понял, с какою–то болью в душе за себя самого, как дружна была эта семья. Но только теперь, глядя здесь на Раевского в окружении младших его дочерей, Пушкин почувствовал с полною силой, что именно от него — от отца — шло все это тепло и к нему возвращалось.
Болтая сейчас с Николаем, радуясь предстоящей поездке, он прислушивался и к разговору Раевского–отца с губернатором, с Инзовым, одновременно кидая взгляд и на девочек, смирно сидевших со строгою своей англичанкой мисс Мяттен. Раевский судил обо всем неторопливо, спокойно и вразумительно.
— Хоть говорят, что великий князь Николай Павлович повторил чьи–то слова, смотря на дворец князя Потемкина: «Этот человек все начинал, ничего не кончал», но сколько же он и довершил! Он заселил обширные степи, он сотворил и сей Екатеринослав, и Николаев, и Херсон…
Тут Пушкин едва его не прервал. Он числил Херсон за двоюродным дедом своим Иваном Абрамовичем. Да и не так это было давно, каких–нибудь сорок лет тому назад! Дед построил Херсон и поссорился с Потемкиным, но государыня его оправдала и надела на него александровскую ленту. Пушкин знал хорошо семейные предания свои и ничего не хотел из них уступать. Но он отложил этот спор о Потемкине до путешествия.
— А кто выстроил флот Черного моря? — продолжал генерал. — Кто уничтожил гнездо неприятельское и приобрел Российской державе Крым и Тавриду? Чего же, спрошу, он не докончил? Не докончил он только круга человеческой жизни, не достигнув границы, ей предназначенной, и скончавшись во всей силе ума и тела.
Карагеоргий был тучен и недалек. Он подавал только короткие реплики:
— Вы истинно правы, ваше высокопревосходительство. Князь Потемкин—Таврический был как светило на фоне…
Тут, как бы на помощь себе, он принимался поглаживать пальцем свою бородавку, но и это мало ему помогало: на фоне чего — так и осталось загадкой.
— Чего ты смеешься? — спросил Николай, заметив, что Пушкин не удержался и фыркнул.
— Смеюсь я на фоне… умных речей, — быстро ответил тот и легонько кивнул на губернатора.
Инзов за завтраком был молчалив, даже задумчив. Вольное замечание Пушкина он все же расслышал и через стол взглянул на него. Александр заметил, как весело блеснули голубые глаза из–под густых, чуть уже седоватых бровей, и по–мальчишески, не удержавшись, кивнул и ему.
Девочки слушали старших, но украдкой поглядывали и на Пушкина. Они о нем многое слышали. Самая младшая, Соня, сидела степенно и чинно. Марии, заметно, это давалось с трудом. Какое–то замешательство вышло у нее за пирогом, она едва из–за стола не убежала; все это не укрылось от Пушкина. После обеда он к ней подошел и начал допытываться.
— Это нельзя сказать, — ответила девочка и покраснела.
Пушкин сел на диван. Снова ему становилось нехорошо: жар, озноб.
Мария заметила это и забеспокоилась. Минуту подумав, она доверительно склонилась к нему и негромко спросила:
— А сами вы тоже… не съели вы муху?
Пушкин весело рассмеялся, горячей рукой поймал ее прохладные пальчики и, вслед за тем приподнявшись к смуглому озабоченному лицу девочки, прошептал тоном заговорщика:
— Ну, вот я и отгадал весь ваш секрет: в пироге была муха?
— Только об этом ни слова, и никому. Ради бога!
Он открыто смеялся теперь ее изумительной выдержке: все–таки съела… вот это характер!
С этой минуты они подружились. Подошедшему доктору Пушкин сказал:
— Да, да… Опять. Пишите рецепт. Но только получше что–нибудь: дряни я в рот не возьму.
И при этом состроил такую смешную и кислую мину и так лукаво–сочувственно взглянул на Марию, что та, забыв о мисс Мяттен, неудержимо наконец расхохоталась.
Весь поезд Раевских состоял из коляски и двух четырехместных карет. В одной ехали девочки, рыжая мисс Мяттен и молоденькая татарочка Зара — компаньонка при девочках и крестница генерала: звали ее по–русски — Анной Ивановной. Сам генерал ехал со своим доктором Рудыковским, Пушкин и Николай Раевский сели сначала в коляску. Обоим им нравилось, что они ехали впереди и можно было держать себя, не стесняясь присутствием старших. Но Пушкину все еще было временами плохо, и в конце концов оба молодых человека перебрались в карету к генералу. Доктор пичкал больного лекарствами.