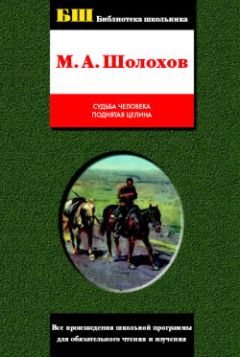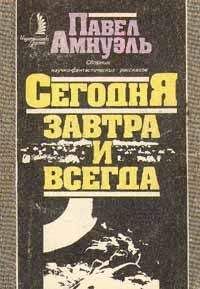— И это я слышал уже не раз. Да полно вам бабиться, Половцев! Возьмите себя в руки.
— Нервы… — промычал Половцев. — Шалят нервы… Мне тоже надоело в этой темноте, в этой могиле…
— Темнота — друг мудрых. Она способствует философским размышлениям о жизни, а нервы практически существуют только у малокровных, прыщеватых девиц и у дам, страдающих недержанием слова и мигренью. Нервы — позор и бесчестье для офицера! Да вы только притворяетесь, Половцев, нет у вас никаких нервов, одна блажь! Не верю я вам! Честное офицерское слово, не верю!
— Вы не офицер, а скот!
— И это я слышал от вас не один раз, но на дуэль я вас все равно вызывать не буду, идите вы к черту! Старо и несвоевременно, и дела есть поважнее. К тому же, как вам известно, достопочтеннейший, дерутся только на шпагах, а не на полицейских селедках, образец которой вы так трогательно и нежно прижимали к своим персям. Как старый артиллерист, я презираю этот вид холодного украшения. Есть и еще один аргумент против вызова вас на дуэль: вы — плебей по крови, а я — польский дворянин, одной из самых старых фамилий, которая…
— Слушай сюда, с… шляхтич! — грубо оборвал его Половцев, и голос его неожиданно обрел привычную твердость и металлический, командный накал. — Глумиться над георгиевским оружием?! Если ты скажешь еще хоть одно слово, я зарублю тебя как собаку!
Лятьевский привстал на кровати. На губах его не было и тени недавней иронической улыбки. Серьезно и просто он сказал:
— Вот в это я верю! Голос выдает ваши искренние и добрые намерения, а потому я умолкаю.
Он снова прилег, до подбородка натянул старенькое байковое одеяло.
— Все равно я убью тебя, — упрямо твердил Половцев, по-бычьи склонив голову, стоя возле кровати. — Вот этим самым клинком я из одного ясновельможного скота сразу сделаю двух — и знаешь когда? Как только свергнем на Дону советскую власть!
— Ну, в таком случае я могу спокойно жить до глубокой старости, а может быть, проживу вечно, — усмехаясь, сказал Лятьевский и, матерно выругавшись, отвернулся лицом к стене.
Яков Лукич возле двери переступал с ноги на ногу, словно стоял на горячих угольях. Несколько раз он порывался выйти из горенки, но Половцев удерживал его движением руки. Наконец он не вытерпел, взмолился:
— Разрешите мне удалиться, ослобоните меня, ваше благородие! Уже скоро светать будет, а мне рано надо в поле ехать…
Половцев сел на стул, положил на колени шашку и, опираясь о нее руками, низко согнувшись, долго хранил молчание. Слышно было только, как тяжело, с сапом, он дышит да тикают на столе его большие карманные часы. Яков Лукич думал, что Половцев дремлет, но тот рывком поднял со стула свое грузное, плотно сбитое тело, сказал:
— Бери, Лукич, седла, а я возьму остальное. Пойдем, спрячем все это в надежном и сухом месте. Может быть, в этом, как его… э, черт его… в сарае, где у тебя сложены кизеки, а?
— Место подходящее, пойдемте, — охотно согласился Яков Лукич, не чаявший выбраться из горенки.
Он уже взял было на руки одно седло, но тут Лятьевский вскочил с кровати как ошпаренный, бешено сверкая глазом, зашипел:
— Что вы делаете? Я спрашиваю вас: что вы изволите делать?
Половцев, склонившийся над буркой, выпрямился, холодно спросил:
— Ну, а в чем дело? Что вас так взволновало?
— Как же вы не понимаете? Прячьте, если вам угодно, седла и вот этот металлолом, но пулемет и диски оставьте! Вы живете не на даче у приятеля, и пулемет нам может понадобиться в любую минуту. Вы это понимаете, надеюсь?
После короткого раздумья Половцев согласился:
— Пожалуй, вы правы, радзивилловский ублюдок. Тогда пусть все остается здесь. Иди, Лукич, спать, можешь быть свободен.
И до чего же прочной на сохранность оказалась старая служивская закваска! Не успел Яков Лукич и подумать о чем-либо, а босые ноги его уже сами по себе, непроизвольно, сделали «налево кругом», и натруженные пятки сухо и почти неслышно стукнулись одна о другую. Заметивший это Половцев слегка улыбнулся, а Яков Лукич, только притворив за собою дверь, понял свою оплошность, крякнул от конфуза, подумал: «Попутал меня этот бородатый черт своей выправкой!»
До самого рассвета он не сомкнул глаз. Надежды на успех восстания сменялись у него опасениями провала и запоздалыми раскаяниями по поводу того, что очень уж опрометчиво связал свою судьбу с такими отпетыми людьми, как Половцев и Лятьевский. «Эх, поспешил я, влез как кур во щи! — мысленно сокрушался Яков Лукич. — Было бы мне, старому дураку, выждать, постоять в сторонке, не примолвливать поначалу Александра Анисимовича. Взяли бы они верх над коммунистами — вот тогда и мне можно было бы к ним пристать на готовенькое, а так — очень даже просто подведут они меня, как слепого, под монастырь… И так рассудить: ежели я в стороне, да другой, да третий, тогда что же получится? Век на своем хребту возить советскую власть? Тоже не годится! А подобру-поздорову она с нас не слезет, ох, не слезет! Скорее бы уже какой-нибудь конец приходил… Обещает Александр Анисимович и десант из-за границы и подмогу от кубанцев, мягко стелет, а каково спать будет? Господь его милостивый знает! А ну как союзники отломят высаживаться на нашу землю, тогда что? Пришлют, как в девятнадцатом году, английские шинели, а сами будут у себя дома кофеи распивать да со своими бабами в утеху играть, — вот тогда что мы будем делать с одними ихними шинелями? Кровяные сопли будем утирать полами этих шинелей, только и всего. Побьют нас большевики, видит бог, побьют! Им это дело привычное. Тогда уж пропадем все, кто супротив них встанет. Дымом возьмется донская землица!»
От этих мыслей Якову Лукичу стало грустно и жалко себя чуть не до слез. Он долго кряхтел, стонал, крестился, шепча молитвы, а потом снова в назойливых думах вернулся к мирскому: «И чего Александр Анисимович не поделят с этим кривым поляком? Чего они постоянно сцепливаются? Такое великое дело предстоит, а они живут, как два злых кобеля в одной конуре. И все больше этот одноглазый наскакивает, брехливый, то так скажет, то этак. Поганый человек, никакой веры я ему не даю. Недаром пословица говорит: «Не верь кривому, горбатому и своей жене». Убьет его Александр Анисимович, ей-богу, убьет! Ну и господь с ним, все одно он не нашей веры».
Под эти успокаивающие мысли наконец-то Яков Лукич забылся недолгим и тягостным сном.
Яков Лукич проснулся, когда уже взошло солнце. За какой-то час он умудрился перевидеть множество снов — и все один другого нелепее и безобразнее.
То ему снилось, что он стоит в церкви возле аналоя, молодой и нарядный, в полном жениховском уборе, а рядом с ним — в длинном подвенечном платье, весь, как белым облаком, окутанный фатой, лихо перебирает ногами Лятьевский и пялит на него блудливо насмешливый глаз и все время подмигивает им бесстыже и вызывающе. Яков Лукич будто бы говорит ему: «Вацлав Августович, негоже нам с тобой венчаться: ты же хучь и плохонький, а все-таки мужчина. Ну куда это годится, такое дело? Да и я уже женатый. Давай скажем про все это попу, а то он окрутит нас людям на смех!» Но Лятьевский берет холодной рукою руку Якова Лукича, наклоняясь к нему, доверительно шепчет: «Не говори никому, что ты женатый! А из меня, милый Яша, такая жена выйдет, что ты только ахнешь!» — «Да ну тебя к черту, кривой дурак!» — хочет крикнуть Яков Лукич, пытаясь вырвать свою руку из руки Лятьевского, но это ему не удается, — пальцы у Лятьевского холодные, стальные, а голос Якова Лукича странно беззвучен и губы будто сделаны из ваты… От ярости Яков Лукич плюется и просыпается. На бороде у него и на подушке — клейкая слюна…
Не успел он осенить себя крестным знамением и прошептать «свят, свят», а ему уже снова снится, что он с сыном Семеном, с Агафоном Дубцовым и другими однохуторянами бродит по какой-то огромной плантации, под руководством одетых в белое молодых женщин-надсмотрщиц они рвут помидоры. И сам Яков Лукич и все окружающие его казаки почему-то голые, но никто, кроме него, не стыдится своей наготы. Дубцов, стоя к нему спиной, склоняется над помидорным кустом, и Яков Лукич, задыхаясь от смеха и возмущения, говорит ему: «Ты хучь не нагинайся так низко, рябой мерин! Ты хучь баб-то постыдись!»
Сам Яков Лукич срывает помидоры, смущенно приседая на корточки, и только одной правой рукой, левую он держит словно нагой купальщик перед тем как войти в воду…
Проснувшись, Яков Лукич долго сидел на кровати, тупо смотрел перед собой ошалело испуганными глазами. «Такие паскудные сны к добру не снятся. Быть беде!» — решил он, ощущая на сердце неприятную тяжесть и уже наяву отплевываясь при одном воспоминании о том, что недавно снилось.
В самом мрачном настроении он оделся, оскорбил действием ластившегося к нему кота, за завтраком ни с того ни с сего обозвал жену «дурехой», а на сноху, неуместно вступившую за столом в хозяйственный разговор, даже замахнулся ложкой, как будто она была маленькой девчонкой, а не взрослой женщиной. Отцовская несдержанность развеселила Семена: он скорчил испуганно-глупую рожу, подмигнул жене, а та вся затряслась от беззвучного смеха. Это окончательно вывело Якова Лукича из себя: он бросил на стол ложку, крикнул срывающимся от злости голосом: