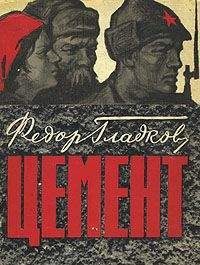…Более полувека прошло со дня выхода «Цемента» в свет. И вот в июльском номере журнала «Вопросы литературы» за 1975 год появилась неизвестная статья Луначарского[1] (ее нет ни в собрании его сочинений, ни в библиографических справочниках), посвященная творчеству Эмиля Золя, где «Цемент» назван «одним из лучших коммунистических романов».
Коммунистический роман… Такого определении за все 50 лет не было ни в нашей, ни в зарубежной прессе. Оно звучит как призыв к дальнейшему изучению «Цемента», к раскрытию еще далеко не исчерпанной глубины идейно-эстетического содержания романа.
Б. Брайнина
Так же, как три года назад, в этот утренний час раннего марта море за крышами казарм и аркадами завода кипело солнцем, а воздух между горами и морем был винный, в огненном блеске. И голубые трубы, и железобетонные корпуса завода, и рабочие домики Уютной Колонии, и ребра гор в медной окалине плавились в солнце и были льдисто-прозрачны.
Ничто не изменилось за эти три года. Дымные горы в отеках, оползнях, каменоломнях и скалах — такие лее, как были и в детстве. Издали видны знакомые разработки по склонам, бремсберги в камнях и кустарниках, мосты и лифты в узких ущельях. И завод внизу — тот же: целый город из куполов, башен и цилиндрических крыш, и та же Уютная Колония по склону горы, над заводом, с чахлыми акациями и двориками в две квадратных сажени у каждого крыльца.
Если войти в пролом бетонной стены, отделяющей заводскую территорию от городского предместья (была калитка, а теперь пролом), во второй казарме — квартира Глеба.
Сейчас встретит его жена Даша с дочкой Нюркой, вскрикнет и замрет на груди, потрясенная радостью. Даша не ждет его, и он не знает, что испытала она без него за эти три года. Нет в стране троп и дорог, не смоченных человеческой кровью: прошла ли здесь смерть только по улице, мимо рабочих конур, или в огне и вихре разметала и его гнездо?
За стеной, на пустыре, играли чумазые детишки, бродили пузатые козы со змеиными глазами и обгладывали кусты акаций.
А петухи изумленно вскидывали навстречу Глебу красные головы в сердитом окрике:
— Эт-то кто такой?
И сердцем слышал Глеб, что и горы в развалинах каменоломен, и трубы, и рабочий поселок гремят глубоким подземным грохотом…
С горы видно, как между каменными корпусами завода стекают вниз к морю, к пирсам, триумфальными арками, в виде гигантской буквы Н, бетонные устои канатной дороги. Струнами натянуты между ними стальные канаты с застывшими в полете вагонетками, и под ними — ржавая железная кисея предохранительной сетки. И там, на конце каботажа, над ажурной башней, — распластанные крылья электрического крана.
Хорошо! Опять — машины и труд. Новый труд — свободный труд, завоеванный борьбой — огнем и кровью. Хорошо!
Кричат вместе с детишками козы. Пахнет нашатырной прелью свиных закут. И всюду — бурьян и улочки, засоренные курами.
Почему — козы, свиньи и петухи? Раньше это строжайше запрещалось дирекцией.
Навстречу, по дорожке, шли гуськом из Уютной Колонии три бабы с барахлом под мышкой. Впереди — старуха, облика бабы-яги, а две позади — молодые: одна — пухлая, грудастая; у другой — глаза красные и веки красные, а на лицо козырьком натянут платок.
В старухе Глеб узнал жену слесаря Лошака; полногрудая — жинка слесаря Громады, а третья оказалась незнакомой.
Он козырнул в радостном волнении.
— Здравия желаю, товарищи женщины!
А они поглядели опасливо и обошли его. И только жена Громады весело огрызнулась:
— Ну, ну, проваливай мимо! Не наздравствуешься с каждым…
— Да что вы, бабы? Не узнали меня, что ли?
Старуха Лошака остановилась и басом сказала не ему, а себе:
— Да это ж — Глеб! Господи! С того света свалился…
И пошла спокойно, угрюмо своей дорогой.
А Громадиха засмеялась и ничего не сказала. Только издали, самой стены, оглянулась и затараторила:
— Торопись, Глеб Иванович, — беги! Поиграй в жмурки с своей Дашей… Найдешь — опять поженитесь.
Глеб поглядел на женщин и не узнал в них прежних приветливых соседок. Здорово, должно быть, потрепала жизнь заводских баб!
Та же оградка у дворика в две квадратных сажени, и тот же в улицу сортир будкой. Только покорежило ограду — и время и зимние норд-осты, — и сизая шелуха зашелудивила доски.
Вот сейчас с криком выбежит Даша. Как встретит она его, пришедшего из огня и смерти? Может быть, она считает его погибшим, а может быть, ждет его каждый день с того самого часа, когда он глухой ночью оставил ее одну с Нюркой в этой конуре?
Он бросил сумку на землю, а шинель на ограду. Постоял, вскинул руки вверх и в стороны, чтобы успокоиться, и вытер пот с лица рукавом гимнастерки.
И только что хотел подняться на крыльцо — дверь распахнулась.
Женщина в красной повязке, смуглая, густобровая, в мужской косоворотке, стояла в черном квадрате дверей и смотрела на него с изумлением. И когда она встретила улыбку Глеба, в глазах у нее вспыхнула испуганная радость.
Знакомый вздрагивающий подбородок, и чуть припухшие девичьи щеки, и яблочком нос, и поворот головы вбок при пристальном взгляде, и прежние упрямые брови — это она, Даша. А все остальное (что — не назовешь сразу) — чужое, не виданное в ней раньше никогда.
— Дашок, жинка!.. Родная! Ну!..
И бросился к ней, задыхаясь от бурного волнения.
А Даша как стала в дверях, на верхней ступеньке крылечка, так и застыла, только растерянно отмахнулась от Глеба, как от привидения. И тихо пролепетала, густо краснея:
— Это — ты… Ой, Гле-еб?.. Милый!..
А в глазах, в черной глубине, вспыхивал неосознанный страх. И как только обнял ее Глеб и впился в ее губы — сразу ослабела она и замерла до потери сознания.
— Ну вот… жива и здорова, голубка…
А она не могла от него оторваться и по-ребячьи лепетала:
— Ой, Гле-еб!.. Как же ты так… Я и не знала… Откуда же ты взялся?.. И так… неожиданно!
И смеялась, и прятала у него голову на груди. А он все прижимал ее и чувствовал, как бьется ее сердце, как вся она дрожит в неудержимом трепете.
Они отрывались друг от друга, опьяненно вглядывались в лица, в глаза, смеялись и опять бурно обнимались.
Глеб вскинул се на руки, как ребенка, и хотел унести в комнату, как бывало в первые дни женитьбы. Но Даша вырвалась и с лукавой усмешкой стала оправляться.
— Ух, как распалился!.. И я как сумасшедшая…
Причесывая гребенкой волосы и тяжело дыша, она пятилась от него к калитке. Но вдруг спохватилась и крикнула испуганно:
— Ой, опоздала!.. Бежать, бежать надо, Глеб!..
И уже серьезно, но еще взволнованно говорила:
— Зайди в завком и запишись на паек. Мне страшно некогда. Ах, Глеб… ах, товарищ!.. Даже не верится… совсем стал другой — новый… и родной и чужой.
— Что такое? Дашок!.. Ничего не пойму…
Даша уже стояла у калитки и улыбалась.
— Я обедаю в городе, в столовой нарпита, а хлеб получаю в парткоме. А ты зайди в завком, зарегистрируйся на хлебную карточку. Два дня я не буду — очень срочная командировка в деревню… Пока отдыхай с дороги. Сейчас выезжаю — ждет подвода. Никак не могу…
— Да подожди же, Дашок… Как же так? Не успел носа показать, а ты удираешь…
Он ринулся к ней и сгреб со всего размаху. А она с ласковой настойчивостью опять освободилась.
— Да скажи мне, Дашок, что это значит…
— А я — в женотделе, Глеб.
— Как в женотделе? А Нюрка?.. Где же дочка?
— Нюрка — в детдоме. Иди отдыхай. Мне ни минуты нельзя… Разговор у нас будет потом… Сам понимаешь: партдисциплина.
И побежала быстрыми шагами. Красная повязка упрямо дразнила его до самой стены, звала за собой и смеялась.
А потом, у пролома, Даша оглянулась, помахала ему рукой и сверкнула зубами.
Глеб подбежал к заборчику и крикнул:
— Дашок! А Нюрочка-то как же? Должно быть, большая… Я забегу к ней. В каком это доме?
— Нет, нет, не смей! Вместе сходим. А пока отдохни.
Глеб стоял на крылечке и, пораженный, смотрел на уходящую Дашу: никак не мог понять, что случилось.
Три года провел в громе гражданской войны. Эти три года горел он в вихре грозных событий… А как прожила эти годы Даша?
Вот он пришел к своему гнезду, откуда бежал когда-то в безлюдную ночь. Вот опять тот завод, где он гарью и маслом пропитался еще маленьким шкетом. А гнездо — пусто, и Даша встретила не так, как он мечтал.
Он присел на ступеньку крыльца и сразу почувствовал, что очень устал. И не оттого устал, что прошел четыре версты от вокзала, а устал от этих трех лет и от этой странной встречи с Дашей.
Почему эта необычная тишина? Почему стрекочет воздух и куриный шелест ползет по Уютной Колонии?