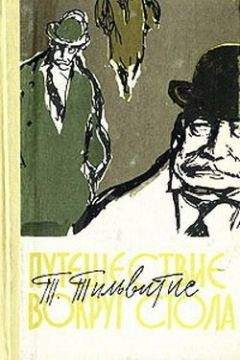— Да-да. — Губы женщины вздрогнули, и он отметил, что у нее вокруг губ залегли две глубокие подковки морщин. Впрочем, они лишь подчеркнули их красивый изгиб.
Лениво-нехотя, но подчеркнуто вежливо он поднялся на ноги, подошел к ее креслу и галантно поцеловал крепкую узловатую руку. Она приветливо улыбнулась, просто от радости, оттого, что она не ошиблась в нем.
— Вы такая… элегантная. Кто же может сравнить такую очаровательную даму с той…
— Ветреницей? — весело подкинула она.
Белогривенко развел руками, дескать, угадали, но ничего не поделаешь. Что было, то было…
Александр Трофимович действительно искренне обрадовался, что вспомнил ее. От этого ему стало приятно и как-то немного неудобно. Они выросли на одной улице, но сейчас говорят друг другу «вы». И еще он застеснялся, что вот так преждевременно и неуклюже располнел, поэтому, стараясь побыстрее спрятаться за столом, умышленно глубже уселся в свое кресло. Но тут же спохватился, потому что так станут виднее его поредевшие волосы, едва прикрывающие начесом оголенную макушку. Холера его побери, и откуда оно все это берется у человека!..
От сознания того, что он давно растерял все свои прелести, Белогривенко вдруг рассердился. Как это часто случается — бывшие красавцы под старость совершенно линяют, с годами блекнут, а такие себе хилые, угристые юнцы как бы наливаются силой, раздаются в плечах, очищаются лицом и горделиво косят глаз на тех, кто ранее ходил в ореоле красавца: сознание своей привлекательности когда-то незаметно парализовало у них всякую силу и волю… Красота, оказывается, быстро уходит. С человеком остается лишь то, что он сам приобрел за годы жизни, а не то, с чем родился… Если бы знать, что красота не вечна!
— А и вас таки не узнать! — сказала Татьяна. Ее лицо лучилось радостью. Она не могла сдержать ее. Но глаза повлажнели, голос стал каким-то бархатистым, будто рождался где-то в глубине груди.
— Послушайте, Татьяна… М-м-м…
— Андреевна, — любезно подсказала она, все еще радушно улыбаясь ему.
«А у нее над переносицей две бороздочки, два мужа, значит… говорят в народе!» — невольно пришло ему на мысль.
— Так-так, конечно, Андреевна. Уже и запамятовал. Хотя мне можно было и попроще — Таня. — Он с надеждой поглядел на нее. Примет ли это предложение?.. Даже разволновался. Будто, если бы она согласилась на такое обращение, уменьшилось бы расстояние лет от старого трехкрылого ветряка на Шаривке до современной вазы из богемского стекла, переливавшегося сейчас всеми цветами радуги.
Однако гостья устало прижмурила веки, задумчиво выгнула тонкие, старательно ухоженные брови и ничего не сказала. Дескать, кто знает, можно ее так называть теперь или нет… Кто знает… И Белогривенко сник от собственной бестактности, на которую ему молча указали. В его душе нарастала досада. На кого? На нее? На себя?..
Взгляд его погас, лицо стало серьезным. Это та самая босоногая егоза с облупленным носом и двумя тоненькими косичками, хлеставшими по спине красными лентами? Теперь Татьяна Андреевна!..
— Как же это случилось, что мы с вами, — «с вами» он вымолвил с нажимом, — так давно не виделись? Иногда бываю в своих Глубоких Криницах. А вот ни разу за последние годы и не встретились.
— Наверное, не имели такого желания. Да что поделаешь! Жизнь… Зато наши дети подружились. Во время каникул всегда вместе.
— Действительно. Моя Аллочка не мыслит себе жизни без молока из-под коровы. Бабушка Мария приучила! — Лицо Белогривенко оживилось при мысли о дочери, бледность отступила.
— А мои парни тоже! — Улыбка заискрилась в удаляющемся взгляде Татьяны Андреевны. Будто она в этот момент перенеслась куда-то далеко и видела перед собой вовсе не Белогривенко и не его роскошную богемскую вазу. — Это все на пользу, Александр Трофимович, говорю вам как врач. Кстати, я теперь врач-терапевт.
— Терапевт? Поздравляю. Не знал.
Его губы плотно сжались, и возле них обозначились глубокие бороздки. И кто знает, о чем они свидетельствовали? О доброжелательном удивлении или о горечи от чего-то, что свершилось вопреки его чаяниям? Или он стремился теперь скрыть за вынужденной улыбкой свое затаенное недовольство и разочарование?
Татьяна Андреевна опустила ресницы, как бы что-то припоминая. А может, она сдерживала слова, чуть не сорвавшиеся с губ: «Потому что не хотел знать!»
— Видите, какие мы теперь… какие мы стали!.. — Белогривенко нервно покусывал свои пересохшие губы.
— Мне кажется, что не так и плохи? Во всяком случае, нам нечего стыдиться себя. И есть чем гордиться. Хотя и не очень, но все же… — Татьяна Андреевна еще говорила, а Белогривенко слушал ее и как бы отдалялся от всего, что окружало его тут.
Теплом повеяло в виски и в грудь, его чувствительные, глубоко вырезанные ноздри будто уловили терпкие запахи зеленых лугов, топких кочек у копанок, между которых извивался маленький журчащий ручеек. Имени у него не было, называли просто и ласково — Поточек. Песчаное дно его морщилось, будто на нем застыла рябь. Рядом шелестели заросли камыша, светлыми островками возвышался остролистый аир, за которым охотились молодицы перед зелеными святками — троицей. Вода в Поточке была глубокой и мутной лишь в провесень да в ливни. А летом ее хватало для шумливых табунов белогрудых уток, чтоб лишь войти по брюхо да погрузить по шею свои клювастые головы.
Возле Горобцовского брода рос густой ивняк, а среди него у самой воды колыхала свои густые седые ветви старая, покрученная годами верба, крепко вцепившаяся черными корнищами в берег. Летом среди знойного дня ее обседали стайкой девчонки. Опустив загорелые ноги в воду, они плескались, как те утята, вздымая фонтаны брызг и издавая пронзительный веселый визг. Не без намерения, вестимо. Потому как этот гам разносился по всему берегу аж до Зеленого озера, где выгревались на белом песке или ныряли за раками ватаги мальчишек. Когда здоровенных пучеглазых раков было уже достаточно, сорванцы вихрем мчались к седовласой вербе. Только розовые пятки сверкали. Они держали в руках черных страшилищ, которые угрожающе шевелили растопыренными клешнями