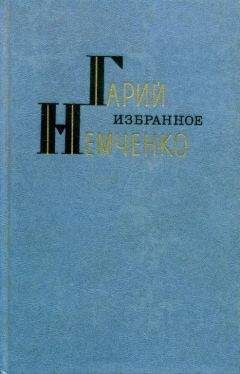Эти свои грустные, в полусне пришедшие размышления Котельников тоже решил было заспать, но уснуть ему больше, как ни старался, не удалось, в чуткой дреме он слышал, как вставали и дед и бабушка, как потихоньку переговаривались:
— Ты-ко не поднимай Андреича. Оставь зоревать.
— Пусть, однако, зорюет...
К рассвету горница выстыла, и край тулупа, который выбился из-под матраца и которого Котельников касался щекою, был прохладен, от пола и самодельных половиков исходили запахи старого жилья, в котором испокон сушили травы, проветривали кедровые орехи, били шерсть, пряли, мяли кожи, делали всякую другую работу, а из кухни приносило теплый дух свежего хлеба, уже доплывал оттуда сытый мясной парок, и Котельникову уютно было лежать в полудреме и слушать, как поскрипывает дверь, как скребут по чугунной плите конфорки, потрескивают в печке дрова и сипит, закипая, чайник.
И он уже хорошо вылежался, когда дед, немного постоявший в проеме двери, глядя на него, неторопливо сказал:
— Спишь, Андреич? А там рябки топчутся, аж спины у самочек трешшат...
Котельников улыбнулся:
— Так ведь не весна...
— От и мы им с баушкой то доказуем, — оживился дед. — А им все одно.
— И то, — сказал Котельников. — Чего им? Воздух тут свежий...
— Водки они не потребляют, — поддержал дед.
— «Калиновку» еще не приспособились?
— Да вот с городскими поведутся, те быстро научат.
— Которые с Авдеевской новостройки?
— Станут эту «Калиновку» потреблять...
— Бормотуху.
— Так выводки небось сразу до того истошшают, что ты его, рябка, днем с огнем...
Котельников сказал:
— Это да.
Он уже натянул синие трикотажные брюки и теперь, скрестив руки на груди, сидел на своей постели на полу, а дед примостился на небольшом сундуке, у двери, снял и пристроил на коленке старую, с потертым кожаным верхом шапку.
В кухне за его спиной еще горела лампа, от печки на стене возникали блики, опадали и снова начинали полыхать, озаряли крепкую и гладкую, как яйцо, макушку деда, и светлыми были его широкий лоб, косматые брови и хрящеватый кончик большого носа, однако зрачки под крутыми надбровьями поблескивали как бы из полумрака, и темною казалась сейчас его изжелта-белая, почти да пояса борода.
— Ты мне вот что, Андреич, скажи. Почему так?
Замолчал и наклонился пониже, словно всматриваясь в Котельникова, и тот, отвечая тоже внимательным взглядом, уже в который раз подумал о жадности, с которою дед был готов вести разговор хоть вечером, а хоть утром, — пять дней живет у него Котельников, а дед все еще не наговорился.
— Вот у тебя двое. Так? И ты по нонешним временам, считай, многодетный. А у нас с бабушкой восемь человек. И мы, считалось, середнячки. Не мало, однако, но и не много.
На кухне перестала глухо постукивать мешалка, и Котельников представил, как приподняла голову Марья Даниловна.
— Толку-то? Уже свои дети, внуки у некоторых скоро будут, а до сих пор — с нас тянут.
Дед живо обернулся:
— А зачем ты их, баушка, рожала? Или не для того?
— Знатье бы, дак не рожала.
— На ком бы остановилась?
— На ком бы — это-те нельзя. Грешно. Вообще говорю.
Дед снова наклонился к Котельникову:
— Вот теперь и скажи мне: почему?
— Некогда нам, дед. Все некогда.
— Мы и то с баушкой радио послушаем: дак, а когда?
Мешалка снова перестала стучать:
— Сказывают, все на этой-те... вахте.
— Тут и действительно рябку другой раз позавидуешь, — прищурился дед. — Свистнул — она тут же летит...
— Ты что, однако, пристал к Андреичу? С утра пораньше.
— Ну, давай, Андреич, за стол. Баушка нам ельчишек поджарила.
— А может, сперва сетешки глянем?
Дед согласился:
— Давай сетешки.
Но прежде Котельников зашел за печь, подождал, пока Марья Даниловна кончит размешивать пойло, потом подхватил ведро и вышел на улицу.
Утро было студеное, гальку под обрывом укрыла изморозь, и темная река стыла меж поседевших берегов, а дальше чернела тайга, лишь кое-где крапленная темно-рыжими островками осинников, синеватый туман зыбился над ближнею согрой, густел у подножия сопок, а над ними, неровно высвечивая зубчатую кромку леса, растекалась ярко-желтая полоска зари, и нижние гривки были уже оплавлены солнцем, сквозили те, что повыше, а самые верхние еще блекли в размытой просини.
Из будки вылезла Найда, выгнулась, прошла мимо Котельникова, плотно задевая боком его сапоги, ударила хвостом и ткнулась в руку на дужке, и он взял ведро в левую, а правую положил ей на голову, и собака подняла внимательные карие глаза и посмотрела на него так, словно этого она и хотела — чтобы он погладил да потрепал за ушами.
Он нагнулся, пытаясь разглядеть щенят.
В глубине конуры щенята жались друг к дружке так, что невозможно было понять, где там чья голова, и он улыбнулся, глядя на этот символ теплоты отношений, а Найда благодарно лизнула его в щеку — будто давала понять, что ей ведомо, о чем задумался погрустневший Котельников.
Плотный коротконогий бычок, пригнув голову, стоял на краю поскотины, уже ждал его и, увидев, нетерпеливо взмыкнул. Отталкивая его твердый, пока с завитками шерсти на месте рогов лоб, Котельников поставил ведро с той стороны прясла и тут же просунул руку внизу между слегами и взялся за край, придерживая, а бычок тут же сунулся мордой и зацедил взахлеб.
Прислушиваясь к длинным его затяжкам, Котельников опять вернулся к далеким дням детства и припомнил бабушку, у которой каждый год жил летом, и выгон за городишком, где он пас телят вместе с другими огольцами, и темный, и, как тогда казалось, бескрайний лес. Над выгоном в сторону леса часто пролетали маленькие «кукурузники», и оттого, что проносились очень низко и тут же пропадали за кромкою, всегда казалось, что они стремительно снижаются и садятся где-то совсем рядом или падают, и каждый раз, обгоняя один другого, мальчишки мчались через лес, бежали иной раз очень долго, за лето он отбил себе ноги, но самолета вблизи так ни разу и не увидал, улетали они куда-то за лес, куда-то, казалось тогда, очень далеко.
Готовое улетучиться, это воспоминание было светлым и как будто слегка печальным, Котельников был рад ему и, придерживая ведро ладонью, пальцами опять потрогал лоб с крутыми завитками. Бычок тут же боднул, измазав Котельникову руку, потом посмоктал еще немного и слегка отступил. Вытягивая шею, стал поддавать лбом, словно хотел приподнять ведро, и Котельников убрал руку, отдал долизывать почти пустую посудину.
Пока бычок погромыхивал ведром, ожидавший Котельников притих, ему подумалось, что дома в это время проснулись его ребятишки, и Ванюшка, обеими руками придерживая просторную пока, от братца доставшуюся пижамку, босиком пробежал к Грише, залез на кровать, пытается забраться под одеяло, а тот подоткнул его себе под спину, делает вид, что спит, и Ванюшка начнет обоими кулачками колотить его по плечу, и с кухни прибежит Вика, уложит их рядом и каждого шлепнет, каждого поцелует и попросит не ссориться...
И тут же Котельников как будто очнулся, стал, нагибаясь, доставать ведро, пытаясь подтащить ближе к пряслу, чтобы поднять потом через верх.
В последнее время он запретил себе всякий раз, как придет на ум, вспоминать о своих отношениях с женою и подозревать ее мимоходом. Не потому, что боялся свыкнуться с мыслью, будто она ему изменяет, — просто был он гордый человек и был, как привык считать, человек трезвый, и ему, во-первых, казалось недостойным ворошить это без конца и теряться в догадках, а во-вторых, он был убежден, мгновенные вспышки ревности все только запутывали. Другое дело, когда Котельников возвращался к этому вечером. Тогда, среди ставших теперь обычными для него размышлений и о прожитом дне, и о всей своей жизни, думал он и о них с Викой, и то ли оттого, что в этих его ежевечерних рассуждениях присутствовала некая заданность, они были несколько отвлеченными, и это устраивало Котельникова, ему казалось, так лучше — и честнее, и, пожалуй, надежней.
Когда сидел на корме и греб, припомнил, как ночью почудилось, что умирает, но он только усмехнулся, и это откладывая на потом, поднажал веслом справа, и лодка легко вынеслась на стрежень, нос стало заносить, и он поднажал опять.
Дед, боком стоявший в носу с шестом в руках, обернулся к нему, слегка повел бородой:
— Однако поте́плело в верховьях.
Вода вскипала тугим буруном, на миг светлела и с глухим шумом снова уходила под борт, в черную глубину. Котельников напрягся еще, пытаясь обогнуть узкий мысок и заскочить в курью с ходу. Отозвался, когда уже развернулся в курье:
— Думаете, теперь пойдет?
Дед с сомненьем прищурился:
— Да, если осталось кому идти...
И Котельников понимающе кивнул.
Лето отстояло погожее, без дождей, вода в Терси падала, как никогда, и машины по бродам да перекатам пробирались далеко, поднимались выше обычного. К обмелевшим ямам и омутам, где гулял хариус да от сталегорских фенолов отполаскивался в горной воде таймень, царапались на подвесных моторах, скреблись на водометах, которых и в городе, и на новостройке развелось невидимо.