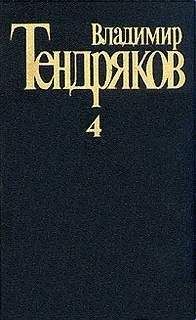Но перед кем? Если б даже тетка Дуся и не спала, то все равно надежды мало, что поймет. Ни тетка Дуся, ни кто другой. Все, что произошло сейчас, слишком мое, слишком личное! Мне оно ясно, дли других сложно и запутанно.
А радость распирала. Как жаль, что нет такого, кто понял бы ее, принял бы, как свою. Счастье поделиться радостью. Разделенная с другим радость не убывает, наоборот, становится шире. И как жаль, что нет никого рядом.
Нет?.. Я чуть не подпрыгнул от простого открытия. Для неверующего нет, неверующий обездолен! Для верующего есть! К его услугам всегда терпеливый, чуткий, преданный и всепонимающий собеседник. Всегда рядом, только распахни душу.
И я поднялся с постели.
Я не посмел зажечь лампаду перед иконой — разбудил бы тетку Дусю. Да свет и мешал бы мне, вид закопченных досок оскорблял бы мое представление о боге. В трусах и майке, поеживаясь после теплого одеяла, я опустился голыми коленями на холодный, изношенный узловатый пол.
— Верю, господи, — зашептал я, — верю, что ты существуешь. Верю, что ты не напрасно расплодил по планетам людей, не напрасно наделил их разумом. Верю, что есть какой-то великий смысл, какая-то конечная цель. Не рассчитываю понять ее, познать ее, но верю, есть что-то, ради чего мы рождаемся и умираем, поколения сменяют поколения. Верю, господи, в собственную полезность, теперь верю даже в то, в чем всегда сомневался, — в силу свою верю, в правоту! Мне больно за Ингу, больно за дочь. И это единственная боль, которая еще мучает меня. Попытаюсь и ее снести с мужеством. Пусть простят они меня, пусть простят, и мне тогда станет совсем легко…
Моя молитва кончилась неожиданно для меня. Первая в жизни молитва, первое слово к богу, верное доказательство, что он, мой бог, существует.
Я еще в легкой растерянности постоял на коленях, чувствуя жесткость неровного пола, и поднялся. Я словно сейчас вернул висевший на мне ежечасно мучивший, мешавший жить долг — чиста совесть, могу не стыдясь глядеть людям в глаза. Даже Инге. Даже дочери.
Вздрагивая от пережитого волнения, я снова лег на свой жесткий соломенный матрас, укрылся поуютней и, помня, что за окном лежит тихая земля, залитая луной, уснул.
Моя первая молитва в жизни… Я тогда не мог знать, что она будет и последней.
* * *
— Перекур!
Я прислонил к глинистой стене ямы лопату и полез наверх.
Рано ли, поздно этот разговор должен был случаться. Я его ждал и знал, что скорей всего он завяжется в один из перекуров.
Начал Митька Гусак.
— Ты, говорят, даже статьи писал по науке? — спросил он. — Правда ли?
— Правда.
И тут Пугачев, наш бригадир, резко повернулся ко мне своей широкой, чашеобразной, чингисхановской физиономией:
— Хвалил, поди, в статьях науку?
— Да… Хвалил.
— Миловал да гладил и вдруг не поладил, что так?
— Надежд наука не оправдала.
— Чьих? Твоих?
— И твоих, наверное, тоже. На важные для нас с тобой вопросы отказывается отвечать.
— Наука! Отказывается?! — выкрикнул изумленно Гриша Постнов. — Да это же чушь собачья! Да он же ерунду городит!
У Гриши к науке любовь без взаимности. Он ее любит, она его нет — на вступительных экзаменах срезался, не попал в институт.
— Да разве есть такое, чего наука знать не может? Чушь собачья.
— Есть.
— Вся наука?
— Вся.
— Что за вопросы такие заковыристые, что наука осечку дает? — спросил Пугачев.
— Да нет, не заковыристые, а как раз самые простые.
— К примеру?
— Например, как сделать, чтоб люди не обижали друг друга?
— Так кто же тогда ответит, как не ученые люди?
— А на них и отвечать не надо, в них надо просто поверить.
— Во что поверить?
— В то, что лгать и подличать нехорошо, что следует жить в любви, в мире. Есть ли нужда это доказывать? Ты это знаешь… Он знает. Все в общем-то знают, но не все придерживаются — лгут, подличают, войной друг на друга идут.
— А ведь верно, — подал голос Руль, сидевший между своими дюжими Рулевичами. — Знаем, хорошо все знаем, а толку от этого знания чуть. Парень-то прав.
— Идиотизм! Чушь собачья.
— Значит, плохо знаем, — заявил Пугачев. — Что железно знаешь — на том не сорвешься.
Митька Гусак хохотнул:
— Не скажи, Пугач. Я вот хорошо знал, что за шахер-махер в торговом деле — того, ласково не хвалят, а не утерпел. Мотоцикл шибко хотелось купить, а зарплатишка — штаны не огорюешь.
— Вот видишь, — сказал я, — знание и вера — не одно и то же. Нужно, выходит, крепко верить в какие-то нехитрые законы — не укради, не убий, не прелюбодействуй…
— В законы верить?.. — переспросил Пугачев. — В законы — готов. Но, сказывают, ты от этих законов дальше пошел, в бога верить стал.
— Это после-то науки! В бога! — выкрикнул Гриша Постнов.
— Сказал «господи», скажи и «помилуй», — ответил я. — Признаешь, что нужно верить в нравственные законы, признай тогда и веру в бога.
— Почему же обязательно в бога? Уж-таки без него никак?
— Никак.
— Растолкуй.
— Попробую. Если я установлю эти законы, я прикажу тебе — верь! Ты поверишь?
— А почему бы и не верить, коль твои законы умные и нужные.
— Ну, а вдруг тебе при этом очень захочется мотоцикл иметь, а мои-то законы тебе мешают?.. Наверное, задумаешься тогда, почему бы их и не обойти на кривой. Не такой уж я для тебя авторитет, чтоб ты по моему слову без оглядки следовал, даже от соблазнов отказывался.
— Потому, наверное, и сейчас тебе я не очень-то верю, хоть и складно рассыпаешься.
— Вот, вот. И любой другой человек, пусть он самым высоким начальником будет, для тебя все-таки человек, не более того — можно верить ему, но можно и не верить. И когда он скажет: не лги, не подличай, — то ты еще подумаешь, верить ли ему, особенно в тот момент, когда тебе эта вера мотоцикл добыть мешает. Или не так?
— Пусть так.
— То, что исходит от таких, как ты, людей, для тебя не столь уж обязательно, потому как ты знаешь, что человек есть человек: он и ошибиться способен, и обмануть, — зажмурив глаза, доверять ему не всегда удобно.
— Верно, — снова степенно согласился Руль. — Всегда при себе мыслишку носишь — на простаках, мол, воду возят.
— А вот если признаешь, — продолжал я, — что эти простые законы установлены не человеком, а кем-то, кто намного выше людей. Если ты поверишь, что такая фигура есть, что он верх разумности и справедливости, если только ты поверишь в это, то его-то законы уж постараешься выполнить. Они не от меня, не от начальства, они от того, кто никогда не ошибается, кому можно и нужно доверять слепо, без оглядок, без оговорок! От того, кого ты сам принял и признал. И от такой веры плохого не будет, только польза всем. Вот и получается, что, веря в законы, приходится верить и в бога.
— Как же я поверю в него, когда его-то в наличии не имеется? Пустое место, выходит, признавай.
— А откуда ты знаешь, что его нет?
— Доказано! Доказано! — заволновался Гриша. — Раньше на небо указывали — мол, там он. Нехитрый расчет — до неба не допрыгнешь, попробуй-ка проверь. Но теперь-то проверили, теперь в космос залезли, а там не только бога — блохи живой не нашли.
— Доказано ли? — спросил я. — Блохи живой, говоришь, не нашли, а это вовсе не доказывает, что нет таких планет, которые не только блохами, но более умными, чем мы с тобой, людьми заселены. Не нашли — не доказательство.
— Я так понимаю, — снова вмешался старик Руль, — коль польза тебе прямая от веры, то какие же еще нужны доказательства? Польза, друг, — самое что ни на есть существенное доказательство, никто от него не отвернется, каждый признает.
Я с благодарностью и уважением посмотрел на старика — он за несколько минут ухватил то, до чего я дозревал в течение многих месяцев: «Нуждаемся в этой гипотезе».
— И все-таки польза от пустого места, как хлеб из воздуха, — не растет, Михей Карпыч, — возразил Пугачев.
— Ты сказки об Иване-царевиче слышал в детстве? — Руль строго нацелился своим твердым носом в бригадира. — Ивана-то царевича нет и не было, место пустое, а, поди, слушал, радовался, на ус мотал, на пользу шло. Там, может, польза и не корыстна, здесь покрупней, потому что и бог мыслится куда крупнее Иванушки-дурачка.
— Внушением лечат людей, — подсказал я. — Нет у тебя здоровья, а тебе внушают — есть, ты излечиваешься. Польза, а ведь при недомыслии ее можно и отвергнуть — из пустого-де места польза-то.
— То-то и оно, — подтвердил Руль.
— А помнишь, отец, деда Костыля? — спросил один из Рулевичей.
— Ну помню.
— Сам говорил, что сволочной старикашка, до самой смерти норовил на чужом горбу проехать. А ведь как он в бога-то верил.
— Верно! — восторжествовал Пугачев. — От веры в бога Костыль в добрые законы верить не стал.
— Да полноте! Костыль ни богу ни черту не верил. Себе одному, да и то раз в неделю, по пятницам. Мало ли кто притворяется верующим. Вот и Митька Гусак, когда торговал, честным и чистеньким, должно, притворялся.