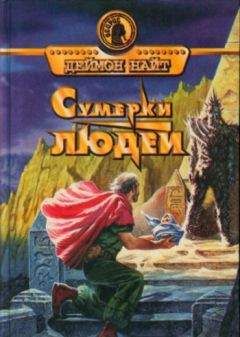Н-да… А может, все как раз наоборот? Может, память наша надежна, мудра, бережлива? По отношению к себе самой бережлива: отбирает и хранит лишь главное, лишь самое необходимое — не казавшееся тебе когда-то ни главным, ни необходимым — и старательно оберегает себя… от чего же оберегает? От пустяков? Да нет, пустяки-то, бывает, крепче другого прочего помнятся, как другу моему — эти миллионы тонн ила. Но и они помнятся каждому свои. Вот он запомнил, ночью подыми — скажет, а я, чтобы привести здесь этот пример, — хоть много раз слышал его стихотворение и глазами читал, — опять вынужден был в книжку заглянуть: сколько там миллионов-то?
И тут, стало быть, загадка.
От чего-то иного, значит, сберегается она, от такого, что тебе, тебе именно, — такому, каков ты есть, каким стал и каким кому-то и для чего-то нужен, — помнить вовсе не надо, не следует. Так, наверное? И если так — все тогда в капризном механизме этом устроено и запрограммировано индивидуально.
Лично у меня память устроена, извиняюсь, хреново. Никчемнушная какая-то, бестолковая, невыгодная. Говорю об этом без кокетства, без желания покрасоваться: вот, мол, я какой! — не от мира сего. Меня самого эта никчемушность памяти частенько раздражает.
Я, например, не помню — никогда не умел запоминать — важные даты, необходимые цифры, мудрые мысли, полезные рецепты (вредные, впрочем, тоже: как, скажем, выгнать преследуемое передовой общественностью зелье без самогонного аппарата и дефицитных дрожжей). Прочту о чем-нибудь подобном или выслушаю — и… в одно ухо влетело, из другого тут же вылетело. Вез шороха и осадка.
То же самое — с людьми. Деятелей исторических не помню: императоров разных (кто, где, когда правил), трибунов, тиранов. Да господи! Нынешнее-то начальство, от самого высокого до непосредственного и близкого, толком не знаю: в смысле кто есть кто, за что конкретно отвечает и к кому из них по какому вопросу толкнуться следует. Хожу из-за этого вечно как дурачок, с вопросительно распахнутым ртом: «Где, укажите нам, отечества отцы, которых мы должны принять за образцы?» А они, возможно, рядышком, под боком — отцы-то.
Да ладно, за начальство бог простит. Вот что самое обидное и непростительное: правильных, разумных людей, с которыми сводила меня жизнь и от которых мог я почерпнуть много полезного, школьных наставников, в частности, наполовину перезабыл. Если не больше.
Зато хорошо помнятся лица и судьбы разных чудаков блаженных, недотеп, крепко «вывихнутых» на чем-нибудь граждан и даже — прошу простить мне грубое слово — вообще придурков. Отчего это — не могу судить.
Ну, вот… Одним из таких чудаков, из «вывихнутых», как нынче понимаю, был и тренер Суворов, о котором захотелось мне вдруг рассказать. Как говорится — чем богаты…
Впервые увидел я его, когда в нашем горняцком городке, при клубе «Шахтостроитель», начала работать секция бокса. Бокса! — вообразите себе, — не чего-то другого. Гром с ясного неба, цирк с дрессированными слонами, магазин с бесплатными конфетами не потрясли и не восхитили бы нас сильнее, чем открытие такой секции. Окраинные пацаны, изощренные в сражениях улица на улицу и в сражениях этих поочередно изнемогающие, мы воспрянули духом: вот оно, спасение. Теперь нас обучат, как неотразимым ударом бить супостата под дых, в «пятак» и в челюсть! (О том, что «супостат» сам может обучиться этим же приемам, никто, разумеется, не подумал.).
На первое занятие привалило нас, худосочной, заморенной шпаны, человек восемьдесят. Раздетые до трусов, мы стояли, в две шеренги, в длинном, низком бараке — спортзале клуба — готовые на все. Ревниво косили глазом на «вражеские» фланги. Напрягали отсутствующую мускулатуру. Тужились выпятить грудь. Выпячивались, увы, только животы, взращенные на лебеде и капусте.
А перед строем нашим, наскакивая на нас, отскакивая. смешно, петушком, подергиваясь снизу-вверх, бегал маленький сухощавый человечек, страшно похожий на великого полководца Суворова. Даже хохолок у него был точно таком же. (Мы еще не знали, что и фамилия у тренера — Суворов.) Казалось, сейчас человечек выкрикнет что-нибудь такое, вроде: «Пуля — дура, штык — молодец!» — и поведет нас на штурм редутов и бастионов.
И атаку тренер Суворов нас не повел. Он другое испытание устроил — «отборочный экзамен», какому в те времена частенько подвергали новобранцев в секциях бокса. Велев нам рассчитаться на первый-второй, тренер сам надевал перчатки очередным дуэлянтам (перчаток, избитых до белых проплешин, имелось всего две пары) и заставлял их «поработать» несколько минут.
О, это было великолепное двухчасовое побоище! Мы самозабвенно, сладостно валтузили друг дружку. Нашим физиономиям, животам, бокам, испытавшим жесткость голых кулаков, палок и даже кастетов, перчатки были не страшны. Ерунда, щекотка. Все равно, что подушками драться.
Непонятно вот только было — зачем тренеру Суворову понадобилось разыгрывать эту баталию? По окончании-то ее он объявил, что принимаются в секцию все.
Все, конечно, не остались. После праздничного экзамена начались тренировки, изнурительная будничная работа, скучная, однообразная — и пошел отсев. Еще и потому потекли пацаны из клуба, что тренер Суворов тогда же, на первом занятии, предупредил строжайше: применять бокс в уличной драке нельзя. Это нечестно, постыдно и — вообще… приравнивается к холодному оружию, могут дать срок.
Но первую потерю новообразованная секция понесла в тот же день. Потерей этой был я.
Тренер меня обидел. Когда мы уже налупцевались досыта, он придумал еще одно упражнение — на проверку силы. С потолка зала свисали гимнастические кольца — единственный пока спортинвентарь, не считая облысевших перчаток. Тренер заставил каждого ухватиться за них и подтянуться — сколько сможет. Наступила моя очередь. Я повис на кольцах, как государев ослушник на дыбе. Проступили ребра сквозь синюшную кожу. Выперла над животом какая-то острая косточка (раньше я ее не прощупывал). Тренер Суворов подскочил ко мне козликом, больно щелкнул по этой косточке и высоким, дребезжащим голосом крикнул:
— Ишь какие петухи к нам жалуют!
Кругом засмеялись.
«Сам ты петух!» — зло подумал я, спрыгнул на пол, сгреб в охапку шмотки, сложенные кучкой у стены, и ушел… на полгода.
Когда я вновь переступил порог спортзала, то увидел его сильно преображенным. Новенькая «шведская стенка» закрывала унылую штукатурку. Стояла отшлифованная уже руками и задницами «кобыла». Горка «матов» громоздилась за ней. И даже был растянут посреди зала ринг.
Удивительно! — тренер Суворов узнал меня.
— Ты чего сбежал тот раз? — спросил он.
— Да так… — замялся я. — Мать ругалась.
— А теперь? Теперь можешь? Я кивнул.
— Ну, давай, давай, давай — раздевайся! — заторопил тренер.
Опять он устроил мне экзамен (потом я узнал, что для него это был необходимый ритуал: подвергать всех новичков боевому крещению). Но теперь проверял меня «на вшивость» паренек уже поднатасканный — поджарый, мускулистый, проворный. Ох, и погонял меня этот дурачок, обрадовавшийся на бесплатное, из угла в угол. "Bcё! Не примут!" — тоскливо думал я, не успевая заслоняться от его хлестких колотушек.
Однако тренер Суворов меня неожиданно похвалил: — Молодец! Держишь удар. Я еще тогда заметил, что ты способный.
Mue оставалось лишь благодарно хлюпнуть расквашенным носом.
Обнаружилось, что зачуханный наш клуб «Шахтостроитель» превратился за эти полгода прямо-таки в спортивную фабрику. Кроме бокса, работали секции: лыжная, легкоатлетическая, гимнастическая и — неслыханное дело! — секций фехтования. Последняя открылась только что. Суворов раздобыл где-то четыре ржавых эспадрона — и тут же кликнул охотников в мушкетеры. Охотники сыскались: многие из нас посещали не одну секцию.
Понятно, всеми секциями руководил неутомимый, семижильный тренер Суворов. За одну зарплату, без полставок, надбавок и премиальных. Без выходных дней и отгулов — само собой. Он и ночевал здесь, в маленькой комнатушке, служившей раздевалкой и одновременно складом спортинвентаря. Там, в уголке. Суворов оборудовал себе ложе из двух спортивных «матов». Третьим он укрывался. Где-то, на далекой 4-й Кирпичной улице, существовала у него тетка, у которой Суворов был прописан и которую навещал раз в неделю, да по красным праздникам.
И еще деталь, немаловажная: почти во всех командах — лыжников, гимнастов, легкоатлетов — Суворов был, так сказать, играющим тренером, лидером и капитаном. Только на ринге не выступал, объясняя это давним повреждением головы. «Травма, — произносил он редкостное тогда слово. И добавлял более понятное всем в послевоенные годы: — Контузия».
Вот под руководством такого замечательного, или ненормального (не знаю, как точнее сказать), человека и начиналась моя спортивная биография. Теперь существует модное словечко «фанат». Тогда мы его не знали. «Энтузиаст» — слишком высоко и красиво, к тому же подразумевает определенную сознательность ради святой конечной цели. «Одержимый» — самое подходящее. А еще лучше — «ушибленный».