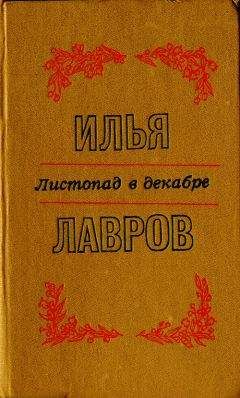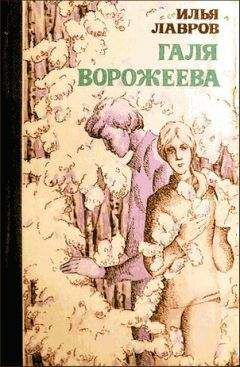— Познакомься, — говорит Лидочка Залесову, — это… — она запинается, — это Илларион Витальевич.
«Не может же девочка сказать: „Папа, познакомься с папой“», мелькает в голове Залесова. Он чувствует себя подавленным — столько во внешности Асташева своеобразия, оригинальности.
Двадцать лет Асташев проводит по раскаленной рыжеватой земле Ферганской долины каналы, арыки. Двадцать лет неутомимо ездит из кишлака в кишлак. Вода — кровь земли, говорят узбеки, и он дает хлопковым полям и виноградникам эту светлую кровь.
Когда Асташев размашисто и шумно входит в какую-нибудь колхозную чайхану и приветствует всех по-узбекски: «Хорманглар!» — «Не уставать вам!», все хлопкоробы, шелководы, виноградари с почтением кланяются, прикладывая руку к сердцу, и каждый спешит протянуть пиалу с зеленым чаем.
Асташев пожимает руку Залесова:
— Присоединяйтесь к нашему колхозу.
И Асташев ведет Залесова вдоль стола:
— Познакомьтесь, друзья: Игорь Ильич!
Кругом молодежь. Наверное, однокурсники Лидочки. На почетных местах тетя Лиза в новом синем платье с белым воротничком и пожилой полковник с седым ежиком волос и с постоянно слетающим пенсне.
Залесов пожимает горячие руки.
— А вот это, позвольте вам представить, жених, Алеша Капустин. Профессия зловещая — хирург. Лечить не любит, а сразу режет. Чик — и готово, без руки и без ноги. Это у них быстро!
Под общий смех перед Залесовым встает высокий, широкоплечий и солидный человек в светлом костюме. Но слегка курносое лицо совсем молодое, почти юношеское. Залесову нравятся его добрая улыбка и мальчишеские глаза. Алеша говорит сердечно:
— Хорошо, что мы познакомились с вами.
По этому тону Залесов чувствует, что Алеша все знает и тоже, как Лидочка, не судит.
— Прошу к костру! — размашисто показывает Асташев на стол.
Залесов понимает, что он привык к ночевкам в степи, что у костра он ест и спит.
— Штрафную! — Асташев наливает бокал вина.
Залесов тихо и мягко поздравляет жениха и невесту, чокается, выпивает. Он насторожен, чувствует себя неудобно, не знает, как держаться. А вдруг всем уже известно, что он отец Лиды? Но простота, сдержанность и скромность приятны и уместны всегда и везде. Поэтому Залесов и старается быть таким. И вдруг вспыхивает мысль: «Зачем пригласили? Я же в их глазах никто. Я не существую. Должно быть, я для них такой жалкий, что они могут передо мной великодушничать! Нарочно пригласили?» Он растерянно озирается.
— Ну, отец, гордись дочкой! — кричит полковник через стол и ловит пенсне, которое, сверкнув, падает и болтается на цепочке.
— Горжусь! — Асташев подмигивает Лиде. Он держит в одной руке трубку, а в другой бокал вина.
Все тянутся, чокаются с Асташевым и со Стасей.
Скрывая замешательство, Залесов тоже чокается. Он видит, как у тети Лизы сердито шевелится нос, ловит встревоженный Лидочкин взгляд. Стеснительной, жалкой улыбкой старается успокоить ее: «Ничего, ничего. Прости меня». Она тоже отвечает улыбкой: «Не волнуйся».
Залесов почти не пьет. Ему хочется думать о людях, о жизни, о себе. В душу вливается покорная печаль.
И хотя все заняты, поют, разговаривают, Залесову кажется, что на него порой пристально смотрят и Стася, и тетя Лиза, и Асташев.
Залесову представляется его присутствие здесь неестественным и даже нелепым. «Зачем я приехал? — в тоскливом смятении снова спрашивает он себя. — Кому это нужно?»
Чем больше молодежь шумит, тем больше нравится это хозяевам и тете Лизе. Большая, величавая, переходит она вперевалку от стола к столу, и громко звучит ее басистый смех. От нее не отстает полковник. Его старомодная галантность смешит студентов.
— Молодежь! Вам хиханьки да хаханьки, — говорит он. — А знаете ли вы, что это — золотые руки?! — Полковник целует большую руку тети Лизы. — Эти руки спасли мне жизнь! И не мне одному.
— Будет тебе, шальной! — Тетя Лиза смеется и треплет полковника по щеке. — Оглоблей тебя, оглоблей. За болтовню-то, говорун!
Полковник одним глотком осушает бокал.
— Ну и утроба у тебя, батенька! — поражается тетя Лиза. — Какие там еще руки придумал! Золотые, медные! Руки как руки. Гляди — толстые, почти мужицкие. Лекарством всяким пахнут. И всю жизнь я ворчу на свою работу. Надоело. Это вон Илларион без ума от своих канав.
— Грешен. Люблю журчащий ручеек, — откликается Асташев и со смаком сдергивает зубами с шампура кусочек мяса. Около Асташева лежит пурпурная горка стручков перца. Жутковато смотреть, как он откусывает чуть не полстручка. — Воду можно любить, как любят ее моряки, — продолжает Асташев, — но у меня другое. Струйка воды на раскаленной земле, а около струйки — зеленое деревце. Вот и вся картина моей жизни.
Залесов слушает, а сам не может оторваться от лиц Алеши и Лидочки — такие они свежие, озаренные.
Алеша и Лидочка задумчиво смотрят на свадебные бокалы и, покачиваясь, тихонько поют. Поют лишь для себя. Через открытое окно из весенней темноты, кишащей звездами, падают на них плюшевые сережки и липкие скорлупки от почек. Одна сережка залетела в бокал с красным вином, другая запуталась в волосах Лидочки, третья упала Алеше на плечо, высыпав зеленую пыльцу.
Стася поет цыганскую песню. Залесов оборачивается, — разве был у нее такой звучный голос?
В середине песни она начинает плакать. Песня веселая, но слезы все текут и текут. Стася смеется, обнимает Лидочку, а слезы все катятся.
Красивыми кажутся Залесову эти слезы матери, снаряжающей дочку в длинную дорогу. Он прячет глаза, поняв всю торжественность того, что совершается, и еще поняв, что сам он не имеет никакого отношения к этой минуте, к этой девушке.
— Эге, голубушка, это уж никуда не годится! — сердится тетя Лиза. — Кто же теперь отдает замуж дочку со слезами? Не к лютой свекрови отдаешь.
Стасе уже тридцать восемь, но выглядит она моложе. Красота ее фигуры, глаз, рук будто впервые открывается Залесову. «Как же это я раньше-то не видел?» — удивляется он.
Ему хочется взять ее за руку, увести в темный тихий сад и походить, вспомнить все, попросить прощения. Но это невозможно. Залесов, незаметный, сидит в уголке под фикусом, и ему кажется, что он всегда любил Стасю, но только не знал этого.
Подходит тетя Лиза и садится рядом.
— Ну, как Лидуська?
— И не спрашивай!
— Эх, ты… Оглоблей бы… — бормочет она и, толкнув его в плечо мягкой ладонью, тяжело уплывает.
Подсаживается Стася, уже успокоившаяся, и тоже спрашивает о дочери.
— Какой я отец! — вырывается у Залесова.
— Нет… Отчего же… — неопределенно тянет Стася и накручивает на палец тоненький платочек, словно бинтует ранку.
— Ведь все это могло быть моим, — показывает Залесов на комнату, на гостей, на Лидочку, на нее, Стасю, — ты понимаешь? Вот сейчас мне кажется, что я люблю тебя. Наверное, так и есть: сейчас родилась во мне любовь. Такая же, как у тебя когда-то была ко мне. Поменялись местами.
— Не дай бог! — Стася поводит зябко плечом, что-то вспоминая.
— Но не это главное. Страшно то, что все в жизни уходит. Безвозвратно уходит. Ведь как ты любила меня!
Стася отворачивается. Лицо ее становится сухим, холодным.
— Так меня больше никто не любил. И вот, где это все? Исчезло. И разве есть такие силы, чтобы воскресить все это? Кричи, умоляй, бейся о стену — ничто не поможет. Страшно. Есть ошибки, которые невозможно исправить. И молодость ушла. Какие силы вернут ее? И жизнь уходит. Чем остановить ее? Прозевал, все прозевал. Не хочу стареть. А старость подходит. Я же люблю молодость и вот не заметил, как она ушла. Бесследно ушла. Семью не сохранил. Новой нет. Дочь не воспитал. Дел никаких не оставил, — бормочет он точно во сне.
Стася наливает вино:
— Сухое. Ты, кажется, любил.
— Не забыла? — Залесов благодарно улыбается и торопливо пьет.
— Вот и друзья, сверстники исчезли, разъехались, изменились. Фергана для меня опустела.
Залесов смотрит в лицо Стаси, изумляется. «Нет, уеду завтра же, — решает он. — Гость на свадьбе своей дочери».
Стася спокойно скользнула взглядом по лицу Залесова и отошла. Боясь, чтобы не прервались мысли, Залесов ищет определение тому, что уже почувствовал. И внезапно из потока слов вырывается одно: «Болельщик!» Да, да, люди вели большую борьбу, а он только «болел» за них!
Первый раз за всю жизнь ему удается взглянуть на себя со стороны. А это нелегко. Мало ли людей так и умирают, не узнав себя.
«Нет, не приносил я вреда, — проносятся мысли, — но и пользы не приносил, а так — стоял в сторонке, наблюдал и восхищался. Даже собственную дочь не вырастил. Да ведь так-то оно и легче, болельщиком-то быть. Только вот конец у болельщиков всегда печальный. Жизнь мимо носа проходит. Бесследно проходит. Что я сделал? Что людям дал? „Ни сказок про нас не расскажут, ни песен про нас не споют…“»