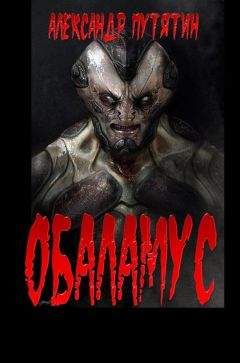— Обороняйся…
Он бережно положил на снег своего Никитича, чувствуя, как стиснуло больно горло, и только тогда схватил его винтовку.
Выпрямившись и глянув перед собою, чтобы схватиться с тем из фашистов, который окажется ближе, ой сразу ощутил: что-то произошло. Враги остановились, замерли в растерянности.
Из-за сопки выносились и, пересекая долину, разворачивались наши танки. Он не сразу понял, отчего они какие-то не такие. Потом только сообразил — танки навьючены были патронными ящиками. Из приподнятого люка ближней машины рука в кожаной перчатке махала ему рукой, как бы приказывая:
— Ложись!
Он не сразу подчинился этому приказу, но только упал в снег, услышал гулкую очередь танкового пулемета и грохот орудийного выстрела, пронесшего над ним тугую волну воздуха.
Танк поравнялся с ним, с пронзительным визгом скребнул гусеницей по валуну, вполз одною гусеницей на этот валун, накренясь, и, перевалив камень, стукнулся о землю, звякнув мороженою броней, и пошел дальше, пятная склоны сопок снарядными взрывами.
Тарасов сел в снегу, соображая: что же делать? Потом встал, бережно поднял на руки Никитича и понес его в поселок. Перед самым поселком невольно остановился. Лощину преграждала цепь раненых. Один из них бинтовал ногу, и еще горячая винтовка, лежащая рядом, обтаяла у ствола снег; другой хотел приподняться, опираясь на винтовку, но сил, видно, не было, и он снова падал в снег; третий полз назад, в поселок; четвертый, забинтованный так, что виднелись только глаза, оглядывался и, увидев падающего товарища, подошел к нему, помог подняться, и они пошли вместе; но еще больше раненых, бившихся тут, лежало, уснув навеки.
— Вот, комбат, все, кто остался… — чуть ли не со слезами проговорил, подходя к нему, Абрамов. Потом широкой своей ладонью стер с лица мертвого Никитича снег и сказал:
— Троих ребятишек оставил…
И заволокло, застлало глаза комбата…
13
Весь день батальон отчаянно бился, ворвавшись в самую гущу вражеских войск. Окоченевшие, обессилевшие руки с трудом поднимали оружие, но люди стреляли и стреляли. Стреляли здоровые, стреляли раненые, стреляли умиравшие…
Поздно вечером гул стрельбы сник, и в штабе батальона, оборудованном в подвале, стали собираться командиры рот и ротные политруки. Из бревенчатого подвала прорубили на улицу двери, в которые можно было, наклонясь, войти. Посредине поставили добытый где-то приличный стол и стулья, нашли лампу. За этим столом, с разостланной начальником штаба картой, и сидел комбат. В дверном проеме показался политрук второй роты. Один. Чувствуя, как заныло сердце, Тарасов спросил:
— Где Терещенко?
Политрук печально глядел на всех, подавленный, безразличный, губы его неудержимо подрагивали, лицо же было сухим, каменным. Они были друзьями с Терещенко.
Тарасов не думал — нет, не мог даже предположить, — что с Терещенко что-то может случиться.
— Когда? — сдавленным голосом спросил он.
— Перед тем как идти сюда… — отвечал политрук и, покачав головою, добавил еще: — Щоб у мене усе гарно було! Шоб нэ подводылы товарищей! — И улыбнулся мне… Яка ж, говорит, Степа, дуреха мене зацепила, неразумна. Тилько драть их почалы, а вона зацепила…
Снова взвизгнула дверь. Маленький, коренастый, не сгибаясь, перешагнул порог политрук четвертой роты — и тоже один.
— Ну? — уже зная, что ждать больше некого, сухими губами выдавил Тарасов.
Политрук, подойдя к столу, развернул планшетку, вынул два исписанных тетрадных листа в клеточку и, показывая их, проговорил:
— Вот… Так и не дописал матери…
С угла листки были в крови…
Комбат встал за столом, и встали все, поминая своих товарищей.
А когда сели, не сразу хватило у Тарасова сил, чтобы начать говорить.
— Я пригласил вас, товарищи, чтобы обсудить создавшееся положение и решить, как действовать дальше, — негромко глухим, прерывающимся голосом начал он. — Мы выстояли в неравном бою. Дорого нам это досталось, но выстояли…
Он помолчал, собираясь с силами, потом продолжил:
— Картина теперь такова: мы окружены, связь прервана. И как будет со связью, еще не знаю — рация разбита, радисты ранены. Тут и я виноват: в бою у поселка надо было их оставить в укрытии. Первый и третий батальоны нашего полка, видать, не продвинулись вперед, соседи слева и справа — тоже. Свою задачу мы на сегодня выполнили: поселок взят и удержан нами, большое количество войск врага задержано и в наступлении не участвовало. На телефонную связь надеяться, конечно, нечего. Остаются танковые рации. Радисты пытаются связаться, но пока безуспешно. Говорят, что мешает погода и местность. У нас много раненых. Без сомнения, враг чуть поотойдет от сегодняшней рвани, кинется на нас опять яростно. Дорога парализована и находится под нашим огнем. Одну батарею я приказал поставить для ее обстрела. Артиллеристы у нас самодеятельные, но кое-что уже могут. Вот, исходя из этого, и прошу высказаться. Твое слово, Иван Семенович, — предложил он командиру первой роты.
— Много мы места заняли, а людей у нас мало. В любом месте противник может прорваться в тыл батальона. На честном слове держимся пока. Надо отходить, сжаться плотнее. У меня половина роты осталась. Четыре сопки обороняем, но, вернее сказать, не оборона это, а так, видимость одна. Люди еле на ногах стоят. Отходить надо.
Ротные один за другим говорили то же самое.
С первого дня нахождения в батальоне Тарасов старался сделать так, чтобы на совещаниях люди свободно говорили обо всем. Это была не просто норма его бытия, а, пожалуй, в неменьшей степени познанная жизнью необходимость. Если люди стеснены чем-то, они притаят свои думы и желания. А всякое общее дело движется не только чьей-то одной волей, а и общими желаниями. Когда же эти желания неизвестны, можно ошибиться довольно крупно, хотя и будешь стремиться поступать наилучшим образом.
Но сейчас комбат был не согласен со всеми. Особенно раздражала эта вот фраза в разговорах ротных: «Противник может». Наконец он не выдержал и резко встал. Все вздрогнули и обернулись к нему.
— Да что вы в самом деле заладили: «Противник может, противник может!»? А мы что-нибудь можем или нет? Стыдно слушать! Да мы сегодня такое смогли, что фашистам, поди, и во сне не мерещилось! Хватит! Точка! — он прихлопнул рукой по столу.
Притихшие командиры смотрели на него, удивленные и обиженные, что он так просто отбросил прочь их общую точку зрения, и настороженные тем, что значило такое его отношение к ним. Ведь если советуются, то нечего сердиться на любой совет. Зачем звать к откровенности, если это не очень-то и нужно? «Ты умен, мы дураки, так нечего и спрашивать с нас. Нечего и советоваться с нами. Приказывай и все» — вот какое чувство начинало уж выражаться во взглядах командиров. Тарасов уловил его. Он понял, что теперь может нарушиться то доверие между ним и остальными командирами, которое было и должно оставаться надежною опорой спаянности командного состава батальона. И он отлично понял, что если теперь не сумеет восстановить подсеченное доверие к себе, то потом это будет сделать труднее.
Посмотрев по очереди на всех командиров, он вздохнул, улыбнулся и, снова садясь на стул, сказал:
— Устали мы сегодня все чертовски. Всё внутри так и дрожит, как струна… Но друг перед дружкой нам и погорячиться можно, а вот бойцы должны видеть, что мы в полной форме. Ну ладно, теперь о деле. Кто-нибудь из вас видывал медвежью охоту? — Все, переглянувшись, молчали. — Не видели? А я вот видел и от бывалых охотников слыхивал, что это такое. Дрыном охотник вызовет медведя из берлоги, а зверь — на задние лапы и с ревом прет на охотника. Охотник подпускает его на выстрел и стреляет. Но случается, что промажет второпях и только ранит медведя. Это, считай, гиблое дело, если нет с тобой хорошей собаки. Перезарядить ружье некогда, с рогатиной тоже не всегда изловчишься, и запевай отходную. Ну, а если есть собака, она вцепится медведю в зад, и он начнет крутиться на месте, пытаясь ее сбросить. Если собака отцепится от медведя— ей и охотнику крышка. Медведь даст собаке лапой — готова, а потом примется и за охотника. Ей нельзя отцепляться, пока охотник не уложит зверя. Перезарядит ружье, изготовится к новому выстрелу, и все кончается хорошо. Может, это и грубо, но мы с вами сейчас находимся в положении такой вот вцепившейся в самое больное место зверя собаки. Да-да! Если мы отцепимся от фашистов — и нам, и нашим там будет беда. Вперед нам надо продвигаться, чтобы встретить их на исходных позициях внезапно. Наших сил враг не знает, но по той рвани, что мы ему дали, судит, что нас больше, чем есть на самом деле. Если же мы отойдем и займем оборону — он сразу поймет, сколько нас, и сделает свои выводы из этого. Главная беда, пожалуй, будет в том, что он оставит здесь меньше войск, чем держит теперь. Остальные пойдут на наших товарищей, и кто знает, к чему это может привести.