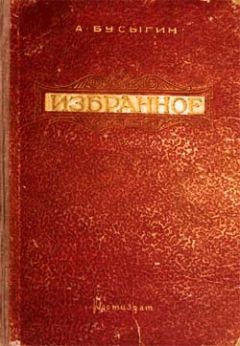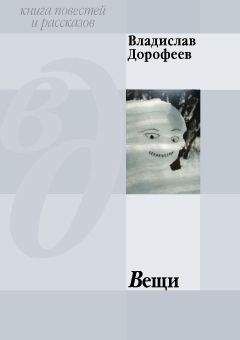— С тобой не договоришься. Горячо на сердце, значит, и залей его пивом.
— У меня не горячо, а холодно.
— А ну тебя! Кацап ты — кацап и есть. — Гардалов рассердился, налил себе пива полный стакан, через край, и выпил залпом…
Степан не торопился уходить из трактира. Идти домой — еще светло. По дороге — лавчонки, в которые он задолжался, хозяева увидят — потребуют долг. Им отдать — самому ничего не останется.
«… Придется, видно, дотемна в трактире досидеть».
Трактир был не из важных. Хозяин имел право из спиртного продавать только пиво, но тайком торговал и водкой. Подавали её в низеньких пузатых чайниках с сахаром на блюдце, будто и в самом деле заправский чай. Городовой, в квартале которого находился трактир, знал об этом, но он каждый вечер аккуратно получал четвертак, а в дни получки — пятерку, и молчал. Но хозяин остерегался начальства повыше, которого за пятерку нельзя было купить.
— Чаю подай! — крикнул Гардалов.
— Пару, — подбежал расторопный половой и догадливо улыбнулся.
— Пока в заварной налей.
Из дальнего и темного угла трактира поднялся Федотов и, радостно улыбаясь, направился к Гардалову. Подойдя к столику, он всплеснул руками, будто бы встретил старого друга, которого давно не видал:
— Коля, здорово! Я, понимаешь, услышал твой голос. А когда ты зашел — не видел. И Степан с тобой. Вот хорошо! Можно к вам присесть?
— Садись, — равнодушно разрешил Гардалов. И предупредил Федотова: — Жена у проходной будки стоит. Гляди, чтобы сюда не зашла.
— Она уже здесь была, — ухмыльнулся Федотов, — и не увидела. Я все время в темном углу просидел. Да и фуражка Бесергенева помогла. Там и Кузькин сидит. Позвать?
— Не надо, — насупился Гардалов. — Ты, Федотов, почему в трактир зашел? И тебя штрафы раздразнили?
— Нет, в эту получку у меня благополучно сошло. А вот в прошлую — за семь дней вывернули… Остальное я с горя пропил. А сегодня — опять выпить потянуло.
— Привыкать, значит, начинаешь? — криво улыбнулся Гардалов. Он подвинул к Федотову свой стакан и, взглянув на Степана, застывшего в безмолвии, грустно покачал головой.
В трактире было тихо. Никто еще не успел напиться.
Пошумливал только Кузькин. Он все время требовал «чаю» и пива, хотя на столе у него было не меньше дюжины бутылок и два чайника заварных. На него никто не обращал внимания. Не подходили и половые. Это Кузькина злило. И он вдруг, заскрипев зубами, стукнул кулаком по столику, выругался и, глотая слезы, запел мягким, чистым тенорком:
Измученный, истерзанный
Наш брат мастеровой
С утра до поздней ноченьки
Стоит за верстаком.
Он бьет тяжелым молотом,
Копит купцу казну —
А сам страдает с голоду,
Всегда несет нужду…
— Не ори! — подбежал к нему половой.
— Уйди от меня! — Кузькин замахнулся бутылкой.
— Дайте спеть человеку, — попросил Гардалов.
И Кузькин спел песню до конца:
Прийдет домой истерзанный,
Жена лежит больна,
А дети плачут с голода —
Нужда, нужда, нужда…
У Степана запершило в горле, глаза заволоклись горячей влагой и помутнели, а на сердце он почувствовал едкую горечь.
— Дай мне стаканчик, — попросил он Гардалова.
Гардалов сделал ему «ерша».
Когда Степан залпом опорожнил стакан и начал закусывать малосольным огурцом, чья-то тяжелая ладонь легла ему на плечо. Он обернулся, увидел Митю, поперхнулся закуской и виновато потупил глаза.
— Ты зачем забрался сюда? — Митя смотрел на Степана укоряюще. — А жена тебя ожидает и охает, беспокоится — куда ты пропал. Упросила меня идти разыскивать. Идем-ка домой….
Степан покорно повиновался.
Гардалов и Федотов молчали. Степан заметил, что они застыдились и опустили головы.
— Что с тобой случилось? — спросил Митя когда они вышли из трактира.
— Оштрафовали меня на пять дней, — со слезой в голосе ответил Степан.
— А в трактир зачем пошел?
— Я не хотел.
— Не хотел, а зашел. Ах, Степа, Степа! Да разве можно в нашем положении унывать?
В уши Степана неотступно лезли слова песни Кузькина, густой горечью оседали на сердце:
Прийдет домой истерзанный,
Жена лежит больна,
А дети плачут с голода —
Нужда, нужда, нужда…
— Не надо, Степа, унывать! А то к одному горю другое прибавится. И в трактир больше не ходи. Я тебя в одно место сведу… Побываешь там, послушаешь — и поймешь, как нам дальше жить и что делать…
Степан плохо слышал Митю. Все его слова заслоняла песня Кузькина:
А дети плачут с голода —
Нужда, нужда, нужда…
1932 г.
Рассказ
Поселок Зыков уже два месяца — передовая позиция Красной Армии. Поселок засыпает под выстрелы и от них же просыпается.
Высокие дома повреждены артиллерийским огнем, зияют черными дырами, трубы на домах того и гляди повалятся на крышу. А маленькие хатенки как будто еще больше в землю ушли, спасаясь от снарядов.
На улицах одуряющий запах акации, солнца вволю, а людей — не видать.
В хатах духота, спертый воздух и свет серый, как железные опилки.
Хотел машинист Булатов открыть окно, но жена его, Ирина, «христом-богом» умолять стала:
— Да ты что! Разве это можно?! Чтоб снаряд влетел! Ума в тебе нету! — схватила Булатова за руку и оттащила от окна.
В люльке сынишка-одногодка заплакал, Ирина к нему метнулась, на руки взяла, пестует.
Знает Ирина, что надо сыну, но грудь у нее плоская, как доска, а купить молока — нет денег.
Каждый день плачет надрывно сынишка, и слезы эти, как камни, в грудь Ирине, и она попрекает:
— Ну, что же ты со своими красными? Каждый день все обещаешь — «сегодня белых погоним. Украину возьмем»… Где ж?
Булатов у окна сидит, лицо тоскливое.
— Чего молчишь? И-и-и, бессовестный ты!
Расстегнула кофточку, уткнула неунимающегося сынишку в пустую грудь и запричитала:
— Все люди, как люди, а здесь… Господи, господи… Разве это муж? Так — чучело какое-то.
Булатов поднялся со скамейки, посмотрел на жену застывшими глазами, сказал:
— Не скули. Где мой пиджак? В депо пойду.
Ирина положила сынишку в люльку, к одежде кинулась:
— Не дам я тебе пиджака. Зачем идти? Вчера дежурил — еще что надо? Неровен час, убьет снарядом, тогда мне что делать?
Булатов легонько отстранил от вешалки жену, надел пиджак, голосом ровным сказал:
— Зачем меня убивать будут? А в депо я иду потому, что сегодня наступать будут… Может, паровозы потребуются.
Взглянула Ирина в глаза мужу, увидела в них знакомые ей упрямые огоньки и ничего не сказала.
Булатов вышел на улицу.
Как заблудившийся пчелиный рой, шумят пули, решетят окна высоких домов…
Пришел Булатов в депо — никого не видать. Тихонько сопит дежурный паровоз, кочегар спит в паровозной будке.
Посмотрел вокруг, везде одно: недобрая тишина.
Под потолком, на рельсовых переплетах, воркуют голуби, воробьи чирикают, загаживают пометом верстаки…
У Булатова нервно задергались веки, он вышел из депо и направился к станции.
Пусто на путях, нет ни одного вагона. Поле просторное, а не станция. И только рельсы напоминают, что здесь была жизнь, бегали вагоны, весело подталкивая друг дружку…
Смотрит Булатов на рельсы, покрывающиеся ржавчиной, и ему кажется — тоскуют рельсы о вагонах…
Гулкий орудийный выстрел спугнул тишину, снаряд перелетел через станцию… Вспахал землю.
Булатов остановился.
Выстрелы зачастили, свистят снаряды, разрываются…
Булатов повел глазами по полю — на зелени чернеют воронки от снарядов, будто осела стая галок. На рельсах — бронепоезд, весь окутан дымом и пылью, орудия огнем сверкают…
Бронепоезд идет к станции. Булатов направился к нему навстречу.
Минут через пять бронепоезд подошел к депо и остановился. Из паровоза выскочил командир; левая бровь у него рассечена, кровью застилает глаз. Командир заметил Булатова, подбежал к нему:
— Товарищ, дорогой, понимаешь, — снаряд в паровозную будку попал и убил машиниста. Где вот теперь найти мне машиниста?
Командир вытер кровь, застилающую глаз, повторил:
— Ни одного нет. Скажи: где найти? — Командир ругнулся со зла — саботажники!
Булатов ответил:
— Я машинист. А саботажниками-то зря лаешься. Как же нам сюда ходить, коли ползать впору? А с твоим бронепоездом я поеду…
Булатов вспомнил жену и плачущего ребенка.
— Дай-ка кусок хлеба, я в одно место отнесу и через минуту вернусь!
Командир схватил за руки Булатова: