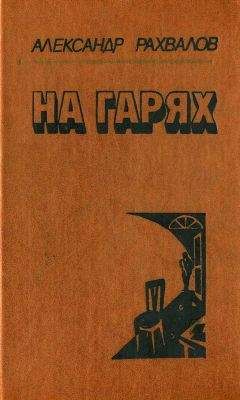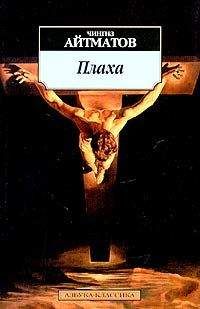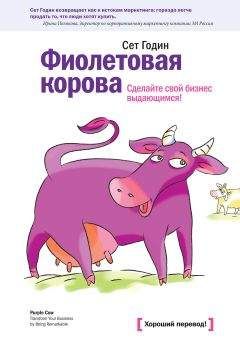— Перепугались! — злорадствовала Клава. — Каратели толстобрюхие. Нет, вам не пройдет этот номер.
— Фу! Здесь же дышать нечем, — столпились в дверях «ордероносцы». — Как в толчке.
— Да, мы валили прямо в ведерко, — продолжала хозяйка. — Честно говоря, и валить-то не с чего было: хлеб кончился. А вы ничего, лоснитесь. Породистая скотинка.
Квартиру оставили за ней. Летом она согласилась самостоятельно провести доделку, за что ей была гарантирована оплата. Но Тамара-то, Тамара отказалась от таких неимоверных по нынешним меркам благ, отказалась по доброй воле!.. Подвел ее, знать, этот всесильный «козырь в башке». Вот теперь и кукует, придурошная баба.
Капитан Ожегов сплюнул да и укатил в другой конец Нахаловки. Но на дымок пожаловали строители. Взревел бульдозер, намереваясь снести Тамарину халупу. Другая бы, конечно, растерялась и, отступая, позволила бы порушить свое рукотворное детище, но только не Тамара. Тамара не была «другой», потому и атаковала первой наглых не в меру строителей.
Враги сожгли родную хату,
сгубили всю его семью, —
ревела она, приближаясь к пузатенькому прорабу. Едва не разгорелась настоящая битва за крохотный пятачок земли, что должен был исчезнуть под территорией гаража.
— Автобусов много, — кричала Тамара, — а я одна.
Прораб, не выдержав натиска, отступил со своим карательным отрядом к Велижанскому тракту, к металлическому забору, опоясавшему автобусный парк. Они умело прикрывали свой отход раскаленным бульдозером.
От ворот автобусного парка пытался докинуть, как камень, свою тяжелую фразу пузатенький прораб:
— Дура! Здесь все завалят песком! Неужели ты не видишь, как работают самосвалы?
— Я тебе завалю! — огрызалась Тамара. — Шарик, Шарик, возьми его, усь! — подталкивала она ногой косматую собачушку-дворнягу. — Не сечешь, косматая? Надо лаять на беспорядки, лаять!
Но собака ни черта не соображала — она была из тех, зажравшихся на свалке. Тамара наплевала ей в «бессовестные шары».
Вскоре на дачу пожаловал Тамарин мужик. С весной Арканя, как всем показалось, стал еще рыжее и шире в плечах. Всю зиму он трескал сало и копил силу для летних перевозок. Однако все знали — кто он и что он такое, этот Арканя. За пять лет работы на мусоровозке он навозил в центр Нахаловки столько всякого добра, что хватило построить в сезон крепкий пятистенок, поднять хлев, баню и дровяник из отличного горбыля, вывезенного на свалку, очевидно, по ошибке. Арканя зажил сытно, по-хохляцки, и семья, прикипев к нему, не знала горя. Но Тамара, беспокойная душа, никак не могла уняться, все ее «тянуло на подвиги». Прочистив с утра мусоропроводы, она возвращалась к своему дачному комплексу и рьяно бралась за работу. Воспитанная в детском доме, она не умела гореть вполнакала — уж пластать так пластать.
Еще она играла на гармошке, которую таскала всегда с собой, если была под мухой или просто в хорошем настроении, и заявляла всюду как бы под аккомпанемент «хромки», что если бы не выпоротки, то она играла бы сейчас в каком-нибудь ансамбле песни и пляски.
Арканя долго осматривал дачу. Он почесал своей косматой рукой за правым ухом, за левым же прихлопнул, как комара, нудное сомнение — похвалить ли? — и наконец решил: — «Сюда буду свозить весь хлам со свалки. Пущай сортируют».
Тамара продвигалась вперед, отчаянная и неудержимая. Сзади, метров за тридцать, показалась ее горластая орава. Вечно сопливая, в одежонке с чужого плеча, орава свистела и рикошетила, как бойкая картечь. По всему было видно, что в их пятистенке разгулялся рыжий папаша — задали деру. Они теперь ему не простят до самой пенсии контрреволюционного разгула.
Тамара прошла мимо Клавиного дома, свернула в свою калитку, на которую без слез нельзя было взглянуть. В ограде задымила железка, ржавая труба едва процеживала дымок. Загремели котлы, ложки-поварешки, зашипела на плите вода. В последний раз заявил о себе гусенок с плешивой шеей: он закричал, хлопая крыльями, точно хотел взлететь, но Тамара тут же подступила с ножом к горлу.
Непросто ей было прокормить такую ораву, причем в полевых условиях. Но она выкручивалась.
Тихон, завидя бегущих ребятишек, сразу же понял: Арканя опять задал стране угля. Ко всему привычные, они не выдержали отцовского буйства и поспешили перебраться с зимней квартиры на летнюю. Лучше в полевых условиях развиваться, чем дрожать под столом или кроватью, пережидая, когда папаша кончит выступать. А здесь, на отшибе, такая волюшка!..
— Тюу! Му! — приветствовал Тихона самый маленький из детей, Илюшка, свисая с Оксанкиных рук.
— Дорогой мой! — улыбнулся Тихон. — Ну, здравствуй, здравствуй!
— Хлен молдастый! — по-отцовски срифмовал картавенький Илюшка. — Здлавствуй!
— Дети мои! Ау! — кричала Тамара, чувствуя, что дети где-то рядом, но позадержались. — Не выкупайте Илюшку в луже. Ох, придурки, ох, придурки! Да чтоб вам, большеухие… — Она заметно распалялась, входила в раж и кричала наугад, не глядя в сторону детей, которые опять погрязли в колее. — Не искупайте, говорю, а то я вас прихлопну тазиком.
— Не искупаем, мам, — отзывалась старшая девочка. — Что мы, придурки, что ли.
— Смотрите у меня… Жираф большой, ему видней. Ут-ро туманное, ут-ро седо-е…
Тамара, может быть, и не кричала вовсе — она так разговаривала, тише не могла и не хотела. Да и покричать, поговорить было ей с кем: шестеро гавриков, один к одному, как огурчики, не считая, конечно же, умерших.
— Соли опять нету, — возмущалась Тамара. — Прямо под самый копчик подгрызают… Ну, не загонят ли опять в психичку?
Дети все не шли и не шли. Застряли полоротые вблизи собственных «ворот» и ни гугу.
Вокруг Тамары крутились разномастные собачушки и кошки с обмороженными ушами: уши у них свисали, как опустошенные гороховые стручки. Почернели даже. Не отходя от котла, хозяйка направо и налево швыряла кости, привезенные мужем со свалки, гнилую рыбу, фарш, ловко вывернутый из целлофана. В пище она не отказывала никому.
— Ешьте! — ворчала она. — Обыватели позаботились о том, чтобы вы не пропали с голоду. Фу-ты, едва палец не откусил… Ты, Шарик, волк, а не собака.
Тамара выполнила план, доведенный до нее жэковским начальником, — остальные «пищевые отходы» — собакам и кошкам, пускай жрут.
— Зажрался народ, — укоряет кого-то Тамара. — Спятил от сытости. Все вываливают на свалку. Ну, господа!..
Сейчас она должна произнести патетический монолог и голос ее зазвучит на самой высокой ноте, набирая все большую и большую мощь. Она вытаращит глаза на зрителя… Вот уж этот зритель заполняет зал — ребятишки вползли в ограду — сопит перед сценой, жалкий и убогий, а на сцене — она, Тамара, в черном до самых пят платье, сейчас она начнет… Этот монолог по плечу только ей, заслуженной артистке, а не рыжему охламону Аркане.
— О, какою высокою стала в нашу бытность культура барского жратия и пития! — звучит Тамарин голос. — Никто уж не выбросит на свалку курицу, прежде не завернув ее в целлофан, никто не выбросит буханки хлеба… Слышите, как пахнет горящий хлебец? На свалке!.. За этот хлеб горел когда-то Петруша, наш великий земляк, — чуете? О, великое сверххлебье! — стонет актриса. — О, потерявшие всякий стыд люди! Я вас презираю и не хочу больше выступать перед вами со столь высокой сцены…
Ребятня с криком бросилась к огромной луже, которая со всех сторон омывала дачный участок.
— Эскадра! Вперед! — командовал старший из парней, сталкивая на воду плотик. — Илюха, куда ты, щенок? Круг ему бросьте, круг! — Плот накренился, зачерпнув болотной жижи, но капитан был решительным: — Навались, орда! Раааз! Мамка, не свороти мачту! Уволю по статье!..
Разгоряченная Тамара, видя, как тонет ее меньшой сынишка, навалилась с берега и вмиг подмяла под себя всю эскадру. Треснул по швам парус, собранный из брезента, переломилась мачта. Тамара, как багром, выхватила тонущего Илюшку, прижала его к мощной груди. Илюха надрывался, как простуженный боцман:
— А-а!
— Боже мой, — стонала Тамара, не выказывая особых мук, — и этот, с двумя зубиками во рту, норовит вцепиться в самую глотку. И тебе, мокрозадый, не жалко матери? А?
Илюшка захлебывался слезами. Тамара на ходу пыталась всунуть ему в рот озябший до синевы сосок.
— Дочка! Ты что, оглохла? В горле уже мозоль, — кричала Тамара девочке, внешне похожей на нее. — Соли нету. Почему не купили?
— Да я, мам, завтра куплю, — оправдывалась девчушка. — Сегодня мы проели все деньги. Завтра не забуду.
— Как — завтра? — не отступала мать. — Жрать-то сегодня надо, так? Ты что, ты думаешь, что отец твой заперся в дому на сутки? Хренушки. Он не усидит в своей крепости и через час выступит, каратель, а мы еще не ели… А?