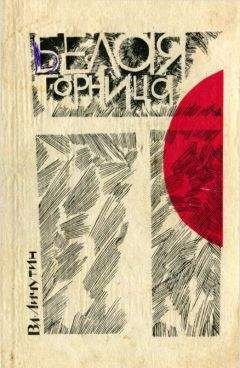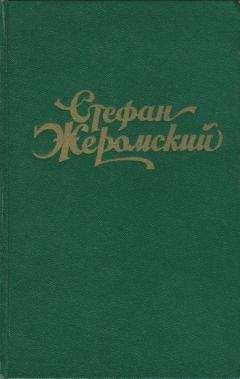– Вот кто, собака, если полюбит, дак не предаст. Мы дурного человека обзываем собакой, а надо бы хорошего. Собака-то полюбит, дак не предаст, не то что наш брат…
* * *
Все-таки под утро врача вызвали, он сделал от сердца укол, и Серафиме полегчало. Но какое-то странное беспокойство вдруг нашло на нее, видно, что-то мнилось, чудилось, даже в коротком сне старушка металась, звала кого-то и плакала. Очнувшись, она попросила поднять ее на подушках и позвать мужа. Хрисанфа долго добуживались, он явился опухший, с натеками под глазами и угрюмый. Встал подле кровати, сердито чесал заросшую шерстью грудь.
– Ну чего тебе, делать больше нечего?
Серафима оставила его слова без внимания, но руки ее беспокойно метались, то оправляли простыни, то подбирали рубашку возле горла, и посиневшие губы шептали что-то, видно, выискивали нужное слово, а может, и скрепляли то единственное, которое трудно было, однако, выпустить.
– Я умираю, Хрыся, – жалобно сказала Серафима; у нее не получилось достойного тона, и голос ее дрогнул. – Надо бы детей известить, чтоб ехали… Я умираю, Хрисанф, – повторила она уже более твердо. – Так знай, что я никогда не любила тебя… Я все сорок девять лет нашей совместной жизни притворялась.
Хрисанф не подавал признаков, он вроде бы и не дышал сейчас, а молча смотрел на супругу, и не то болезненно морщился, не то притворно улыбался, и так, не сказав ни слова, убрел в дровяник, тяжело шаркая галошами. После таких Серафиминых слов, казалось бы, должна свершиться кара, хотя бы жиденький возглас иль неземной короткий гром: что-то же должно было случиться сейчас, так, наверное, полагала старенькая. Но тут ни слова в ответ, лишь тяжелое шарканье галош. Убрел, значит, ах ты прости. Может, и не любил? Кабы любил хоть каплю, то закричал бы, затопал ногами… А может, она убила его признанием, дура, ой дура, чего смолола, будто кто за язык тянул. Хотелось испуга его, гнева, может, и слез и тем самым отомстить за вчерашнее, возвеселиться и забыть. А он как идол.
– Настасья, доченька, что я наделала… Зови старика, он что ли с собой сотворит… Я его знаю… Он, может, и веревку ищет… Он и повеситься может, верно?
Хрисанф только что повалился в дровянике на фуфайки, досадуя на супругу, что вот подняла ни свет ни заря, а ее признания он не понял спросонок. Он только блаженно растянул ноги, как вновь пришла Настасья, а ослушаться дочери старик не посмел бы. Он вновь встал возле кровати, Серафимино лицо напряглось ожиданием, слепо уставилось в потолок. По хлюпающему дыханию она поняла, что муж возле, и вдруг взяла его тяжелую ладонь, расцеловала, положила себе на грудь. Она долго и с нежностью гладила такую знакомую ладонь с набухшими жилами, а старик смотрел в сторону и глупо улыбался. Он взглянул и на меня, думал, не подсматриваю ли, но я поспешно закрыл глаза, притворился спящим.
– Хрисанф, голубчик, встань на колени, – вдруг попросила Серафима. Старик послушно опустился у кровати, а супруга бесплотно гладила его лицо, едва касаясь, вроде бы запоминала, с собою собиралась унести мужний облик. – Вот и все, нажились, как будто и не жили… Через месяц золотая свадьба, а я вот, верно?.. Ну что же я так-то заторопилась, – Серафима смиренно заплакала.
– Ну, брось, брось. Меня переживешь, – гугнил Хрисанф, и со стороны, если не вслушиваться, доносилось: бу-бу-бу. – В тебе помирать-то, старуха, нечему. Ты же как вобла.
– Да, воб-ла-а, – плаксиво возразила Серафима. – А вот умираю, мучитель мой. – Она спохватилась, прикусила язык, воскликнула печалясь: – Ну что же я-то… Может, и к лучшему… Уж как хорошо-то и разрешилось. Иначе тебе обуза… Прости меня, Хрисанф Алексеевич.
– Ну ладно, пошел спать, – с виду равнодушно ответил Хрисанф. – И больше не зови. Все!
– Умру, а он и не поверит, подумает, соврала, – спокойно сказала Серафима, выждав, когда захлопнется за мужем дверь. И вдруг заворковала горлом – то ли смеялась, то ли плакала. Может, выпала старая из ума иль вернулась в то состояние, откуда начиналась ее жизнь?
* * *
Днем, откуда-то прослышав, что умирает Серафима Малыгина, нежданно заявился старовер-начетчик Евтихий. Явился в черном полосатом пиджаке с длинными лацканами, еще послевоенном, и в высоких расписных носках по колено и зеркальных галошах. Он весь был светящийся и тихий, с широко распахнутыми бледно-голубыми глазами, в которых, казалось, жила одна кротость, и серебряным волосом, точно зимним чистым инеем, было окутано все его большелобое лицо. Невесомые волосы подбиты в кружок, макушка желтой репкой слегка обнажилась, борода, текучая, сквозная, колыхалась под его дыханьем, и сквозь проредь ее виделся литой серебряный крест.
Откуда пробрался этот человек, из каких пространств? Словно бы из стародавних скитов, от коих одни лишь названия помнятся в народе, явился он сквозь время, незваный и вещий, как охотник за отлетающей душой. Евтихий с глубоким любопытством оглядел меня, видно, понять хотел, из каких я мест и не несу ли с собою угрозы, но, наверное, вид мой, неприметный и затрапезный, успокоил его (так я предположил), и он быстро прошел в горенку.
Серафима вроде бы спала… Настасья сидела в изголовье, но, когда вошел Евтихий, она не удивилась, сама посветлела темным от бессонницы лицом, даже словно бы обрадовалась гостю и торопливо придвинула ему стул. Евтихий молча смотрел на больную, на ее испитое обличье с пятаками под глазами, на снежные, ровно прибранные волосенки, на странно белые руки, сложенные крестом поверх одеяла, и Серафима, чуя его любопытный проникающий взгляд, долго крепилась, мерцала ресничками, но первой не сдержалась и вроде бы проснулась. Но ей-то, слепой, можно было и не открывать глаза, ибо, распахнутые, они походили на черные остывшие уголья, потерявшие живую глубину, и свет, падающий от близкого окна, скользил по ним, как по металлу.
– Вот… зовут, Евтихий Павлович.
– Христос с тобою, сестрица. Он всех призовет к себе… Ты не прозрела ли перед смертью?
– Да нет, по запаху чую, что ты.
Они замолчали. Евтихий раздвинул бороду, вызволил наружу литой серебряный крест, как бы призывая себя к скорбному, но и возвышенному полномочью, а рука-то у начетчика мужицкая, лопатистая, великоватая для его худенького тельца.
– Ой, сестрица… Все мы ревем, как медведи, и стонем, будто голуби, ждем великого суда, а его все нет. Но призовут на страшный суд, ой, призовут. А может, сказка то, вранье? – Он пристально вгляделся в Серафиму, по движению ее лица стараясь уловить состояние души, чтобы узнать, готова ли она обратиться в истинную веру. – Врут, поди-ка? Иисуса продали за тридцать сребреников, а мы кайся вечно. Нам-то што? Рассыпемся прахом, удобреньем на мать сыру-землю… Во спокое уходишь, сестра, иль тебя терзают диаволовы когти, грызут грудь? Жаровни-то не боишься, коли жарить начнут? Не завопишь там, на страшном-то суде? – И тут Евтихий спохватился, поймал себя на том, что загорячился уже и, поди, зря пугает старушку. Кротостью надо, смирным словом да позовешь за собою.
– Боюсь жаровни-то, – прошептала Серафима, словно бы силы не оказалось воскликнуть. – Как не бояться-то, верно? А если в котел бросят со смолой?.. И чертей боюсь, рогами начнут бодать. Я с детства почто-то рогов боялась. У них рога-то настоящие, поди, иль из железа? – Старушка говорила с придыхом и долгими расстановками, незряче уставясь в потолок, словно бы там ей рисовались будущие казни.
– Кто делает правду, тот праведен. Кто делает грех, тот от диавола…
– Если с рогами они, да с железными, то я лучше прахом лягу, а? – чуть громче спросила Серафима, и, видно, уловив по материному голосу ее игру, Настасья прыснула в горстку и отвернулась к окну. – Мне Хрисанф-то наставил рогов за долгую жизнь… Ой, боюсь я рогов.
– Ты, Серафима, на наших глазах жила. Смирней тебя мы не знаем и не видим, и твою доброту сердечную мы не забудем… У тебя имя-то наше, святое, крылатое, вознестись тебе. Иди к нам, и мы за тебя вечно бога молить будем.
– Я бы пошла, да я табачок курю. С табачком примете?
– Табачок брось. Покайся, и грех этот простится.
– Все одно в землю, там и воньких принимают. – Серафима вроде бы ожила, в голосе ее проявилась сила, и прежнее любопытство проснулось.
– А дух куда?
– Пока жила, весь дух в детей вышел, верно? Вон в Настасье мой дух. Бог добрый, принял бы он меня с табачком, я буду в сторонку дышать, я в лицо дышать не буду. Сяду где-нибудь в сторонку и буду золотым яблочком закушивать.
Евтихий давно понимал, что смеется Серафима, но и прощал ее, не осуждал, ибо жаль было уходящую из мира с такою неспокойною душой, в которой все встопорщилось и бунтует. В такой ли час смеяться человеку, не лучше ли задуматься о пути предстоящем и приготовиться к нему.
– Он не вонькой, а грешный, дух твой. Он в огне, не в покое. Тягостно тебе станет там. Отринься от мирского в последние часы и успокойся… Иди к нам, и мы тебе воспоем и вечно поминать станем. Это ли не благо, вечное поминанье? Все забудут тебя, для всех утратишься, испаришься из памяти, как пена на песке, и только в нас ты найдешь прибегище.