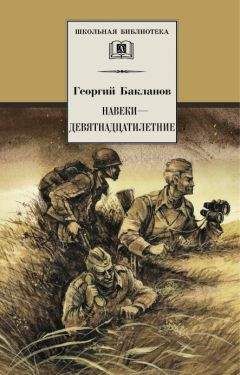А Китенев, как Господь Бог, всех наделивший, говорил, стоя над ними:
– Вот выпишусь, глядите, сколько вам всего от меня останется: шинель – остается, бушлат – остается, сапоги…
– Это что! Я в армейском госпитале лежал, у нас там, – Старых весь кровью налился от наклонного положения, даже лысина побурела, – у нас там два пистолета под тюфяками сохранялись. И все знали. Начальник госпиталя в любую палату смело идет, а к нам заходить боялся. А чего боялся? У нас капитана одного стали в тыловой госпиталь отправлять, обрядили, как покойника: шинелька обезличенная не хуже Гошиной, еще ишь без рукава. «Ах ты, падла такая! Да я из тебя сейчас трех сделаю, и Родина мне за это спасибо скажет…» После этого, как заходить к нам, он пальчиком стучался.
А с Гошиной койки, из бинтов, лимонно-желтый, обросший черной бородой, как арестант, безмолвно смотрел раненный в голову старший лейтенант Аветисян, голоса которого в палате еще не слыхал никто. На Третьякова надели шинель, затянули ремнем, прихватив левый пустой рукав, и тут Китенева осенило:
– Обожди! Я сейчас у Тамарки шерстяную кофту попрошу. Она даст. А то в одной гимнастерке пронижет насквозь.
Третьякова даже в пот бросило при одной мысли, что Саша увидит его в женской кофте.
Как и полагается, вперед по всем правилам была выслана разведка, и только тогда уж Китенев безопасными ходами вывел его из госпиталя.
За воротами, на голубом снегу, под холодной россыпью звезд, он впервые с тех пор, как заперли его в палате, вдохнул морозного воздуха, и глубоко свежим холодом прошло в легкие, даже закашлялся с непривычки. Он шел и радовался сам себе, радовался, что видит зиму, своими ногами идет по снегу, радовался, что к Саше идет.
Повизгивал смерзшийся снег под каблуком, мороз был градусов пятнадцать: когда вдыхал глубже, чуть прихватывало, слипались ноздри. Неся под шинелью прижатую к груди забинтованную руку – ей тепло там было, – он другой рукой поочередно грел уши на ходу, смахивал ладонью слезы со щек: встречным ветром их выжимало из глаз, отвыкших от холода.
Парный патруль, в такт мерным шагам покачивая дулами винтовок, торчавшими у каждого над погоном, прошел по вокзальной площади под фонарем. На всякий случай он переждал за домом – начнут спрашивать: кто? зачем? почему? Вид у него беглый: шинель без погон, пустой рукав прихвачен ремнем, – откуда такой выскочил? Чем объясняться, лучше за углом перестоять.
Они прошли не спеша, самые главные на всей площади: в вокзал шли греться. Пока он пережидал их, накатило от паровоза белое облако, обдало сырым теплом, каменноугольной гарью. Бухнула вокзальная дверь, пропустив патруль внутрь. Третьяков вышел, держась тени, перешел пути. И вот они, два четырехэтажных дома, окнами смотрят на железную дорогу, как объясняли ему.
У крайнего крыльца, где на снегу лежал перекрещенный рамой желтый свет окна, он вдруг оробел: собственно, кто его ждет здесь? То спешил, радовался, а сейчас со стороны взглянул на себя, и вся решимость пропала.
Поверх занавески в окне был виден закопченный керосинками потолок кухни. Третьяков потоптался на крыльце, на мерзлых, повизгивающих досках, взялся рукой за дверь. Она была не заперта. В подъезде натоптано снегом, холод такой же, как на улице. Голая на морозе, горела над входной дверью лампочка с угольной неяркой нитью. Две двери в квартиры. Каменная лестница на второй этаж. В какую постучать? Одна обита мешковиной для тепла, на другой – потрескавшийся черный дерматин. Он одернул шинель под ремнем, расправился, пересадил ушанку на одно ухо и наугад постучал по ледяному глянцу дерматина. Вата глушила звук. Подождал. Постучал еще. Шаги. Женский голос из-за двери:
– Кто там?
Третьяков для бодрости кашлянул в горсть:
– Скажите, пожалуйста, Саша здесь живет?
Молчание.
– Кака Саша?
Только тут он спохватился, что ведь и фамилии ее не знает. «С косами такими красивыми», – хотелось сказать ему, но сказал:
– У нее мать в больницу отвезли…
– Отвезли, дак чо?
«Дак чо, дак чо»… Дверь бы лучше открыла.
– Сашу позовите, пожалуйста. Что же мы через дверь разговариваем? Из госпиталя к ней по делу.
Опять долго молчали. Лязгнула цепочка, дверь приоткрылась; полная голая женская рука из-под пухового платка держала ее. Лицо припухшее. Печным теплом, керосином пахнуло из-за ее спины.
– Нам сказали, мать у нее в больницу отвезли, – говорил Третьяков, словно бы он сюда от имени всей Красной Армии явился. И одновременно старался расположить к себе улыбкой, стоял так, чтобы при неярком свете лампочки было видно его всего от шапки до сапог: вот он весь, можно его не опасаться.
Женщина смотрела все так же настороженно, цепочку с двери не снимала:
– Сам-то ты кто ей будешь?
– Вам это совершенно не нужно. Саша здесь живет?
– Зде-есь.
– Позовите ее, пожалуйста.
– А ей не-ет.
Он все никак не мог к уральскому говору привыкнуть: она отвечала, как будто его же спрашивала.
– Где же Саша?
– В больницу и пошла-а.
Вот этого он почему-то не ожидал, что ее может не быть дома. Уже на крыльце подумалось: надо было хоть спросить, давно ли ушла? Когда будет? Он оглянулся, но возвращаться не стал.
Зайдя от ветра за угол дома, решил ждать. Стоял, притопывал, чтоб ноги не оледенели. Мороз был хоть и не так силен, но в одной шинели долго не простоишь. Особенно рана на спине зябла. Только на этих днях впервые сняли с нее повязку, все там еще чувствительное, оголенное.
Часов у него не было, чтобы хоть время представлять: когда ждешь, оно всегда долгим кажется.
Часы с него снял санитар там еще, в траншее, когда его ранило. Он наложил жгут остановить кровь, сказал: «Заметь время. Через полчаса надо снять жгут, а то рука омертвеет, отомрет вовсе». Третьяков достал часы, а он еще спросил: «Наши?»
Часы эти были первые в его жизни. Три недели подряд ходил по утрам отмечаться в очереди. Очень хотелось ему наручные, с решеткой поверх стекла. Такие, с решеткой, были в их классе у Копытина. Носил он их на пульсе, часто поглядывал на уроке: отставит руку и глядит издали, словно бы иначе ему плохо видно. А когда наконец подошла очередь, наручные все разобрали, и ему достались большие круглые и толстые 2-го госчасзавода карманные часы. Стоили они семьдесят пять рублей, тех, довоенных семьдесят пять рублей. Он сам заработал эти деньги: в учреждениях к праздникам писал плакаты на кумаче. Только уже в полевом госпитале, после операции, он обнаружил, что часов нет. И не так ему часы было жаль, как всего с ними связанного, что они из дому.
Ему удалось наконец прикурить одной рукой. Стоял, грелся табачным дымом, притопывал. Когда почувствовал во рту вкус горелой бумаги, бросил окурок. Ветер из-за угла подхватил его, выбитые искры заскакали по снегу. Нет, долго так не простоишь. Злясь на себя, он неохотно побрел к госпиталю.
Вдали над путями, над семафором – четко вырезанный, огромный, будто ненастоящий месяц. Дорога пошла вниз, месяц впереди начал опускаться за семафор. Где-то далеко на путях прокричал паровоз, осипший на морозе. И, разбуженный его криком, Третьяков повернулся, пошел обратно, торопясь, словно боялся растерять решимость. Он постучал опять в ту же дверь. Она открылась сразу.
– Вы простите, пожалуйста, я не спросил, где помещается это, куда Саша пошла? Больница эта?
Женщина скинула цепочку с двери:
– Заходи, чего дом-то выстужать.
Он вошел. С безбрового лица смотрели на него рыжевато-карие глаза. Они одни и были на белом припухлом лице. Смотрели с любопытством.
– Давно Саша туда ушла?
– Давно-то не шибко давно, а уж порядочно будет.
И оглядывала всего его, чем дальше, тем жалостливей.
– Далеко отсюда до этой больницы?
– Дак не больница, больница-то в городе, а это бараки совсем. Для инфекционных которы. Саша из школы пришла, а матерь увезли. Ой, плоха была, плоха совсем. Она по следу и побежала за ей. Гляжу – вернулась. «Саша, ты обожди, Василий мой с работы придет, мы Иван Данилыча спросим».
– Кто это – Иван Данилыч?
– Иван-то Данилыч? – Она изумилась, что можно его не знать. – Дак райвоенком ведь Иван Данилыч, мужа моего брат старший. «Ты, Саша, обожди, спросим его дак…» Она ничо не говорит и есть не стала нисколько. Бегат по дому по углам, ровно мышка. Темно уже, слышу, побежала опять.
– Так как же бараки эти найти?
– Да просто совсем.
И опять с сомнением оглядела его шинель, пустой рукав под ремнем.
– Улицу Коли Мяготина зна-ашь небось?
– Знаю, – кивнул Третьяков, надеясь из дальнейшего понять, где это улица Коли Мяготина. А сам отогревался тем временем, чувствовал, как набирается тепло под шинель.
– Ну, дак по ей да по ей до самого до Тобола. – И, придерживая на себе пуховой платок, левой рукой показывала в окно через пути – в обратную от Тобола сторону.
– Значит, если от вокзала, это будет широкая такая улица?
– Ну да. А как до Тобола дойдешь, дак вправо и вправо.