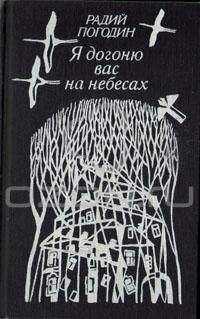Рынок кружился медленно и невесело, без выкриков, без смеха и неожиданных песенных всплесков. Продавались чернобурки и соболя, столовое серебро, фарфор, картины в багетах, бронза, мрамор, хрусталь и шелк, даже вышедшие к тому времени из моды фетровые боты. У меня возникло ощущение, что я попал не на рынок, а в комиссионку, у которой разбомбили стены и крышу. Оттесненные к забору кружением роскоши, стояли простые сатиновые старухи со своим всегдашним товаром: варежками, вязаными шапочками, шарфами. В их провалившихся глазах, в морщинистых ртах булькали воды презрения к суете сует и ко всему, что есть суета.
Продавали за хлеб, за крупу, за масло, за сахар. Так и говорили: «Нужен сахар», «Нужны жиры».
Покупали военные, чаще летчики, наверное из Москвы. Платили папиросами и шоколадом. И на хлеб покупали.
Я кружил и кружил на рынке и прокружил весь обед. Подсознательно я искал куклу. Большую куклу. Но их не было. Были разные статуэтки — фарфоровые, бронзовые, из слоновой кости. Но в конце концов я мог купить девочкам две красивые серебряные ложки, к серебряным ложкам я питал слабость.
Я начал копить хлеб. Буквально копить — давали уже по двести граммов на день. Я отрезал от своего пайка пластик и укладывал его в коробку из-под конфет, там разные фотокарточки и документы хранились.
Мне повезло, в пробитой снарядом «эмке», за спиной заднего сиденья, я нашел большую заплесневелую горбушку сыра. Плесень я счистил. Сунул горбушку за пазуху.
По дороге в столовую увидел Изольду. Она похудела. Стала выглядеть интеллигентнее. Совсем исчезла былая, сразу бросавшаяся в глаза расторопность ее тела. Появилась в ней лирическая бледность, грусть по былому и ласковая печаль. Я вытащил из-за пазухи сыр, разломил его пополам и Колиным жестом, я это невольно отметил, отдал ей большую половину. Она взяла. Я думаю, тоже не от меня, но от Коли. Мы шли с ней в столовую, грызли твердый вкусный сыр и молчали. Мне казалось, в Изольде было что-то Натальино — что-то все-таки было…
В тот день я положил в свою хлебную копилку сразу половину хлебного пайка.
За день до дня рождения девочек у меня накопилось столько сухарей, что выкупленный в булочной хлеб, завернутый в чистую салфетку, я уже смог рассматривать как валюту.
Терзания купца-простофили одинаковы во все века и у всех народов. Увидав у меня хлеб, меня окружили энергичные, желающие его быстро получить люди. Мне предлагали портсигары с монограммами, охотничьи ножи, пепельницы с порнографическими изображениями, красные венецианские бокалы. Я говорил:
— Девочкам. Подарок. Девочкам. Детям.
Мне отвечали с запахом махорки:
— Вырастут.
От нахальных купцов я ушел. Стал приглядываться к интеллигентам. Интеллигентные, заметив мой интерес к ним, тут же придавали своему лицу некое театральное выражение, трагическое, как будто у них у одних смертельная язва желудка; но чаще благостное, даже умильное, или отрешенное, будто свет их чистой души, сойдя с лица, омоет предмет продажи и возведет его в абсолют чистоты и насущной необходимости во веки веков.
Мне эти выражения лиц начали мешать. Мне захотелось отдать хлеб за так, чтобы люди не мучились.
Но тут меня взяла под руку какая-то старушенция. Глаза ее, единственные на всем рынке, были смешливые.
— Именно у меня есть то, что ты ищешь, — сказала она. — То есть предмет абсолютно бесполезный, но исполненный смысла. — Она вынула из противогазной сумки хрустальное яйцо, величиной с пивную кружку. Яйцо вспыхивало в ее сухих ладонях, и от малейшего колебания менялся цвет этих вспышек.
— Бери, — шепнула она.
— Спасибо, — шепнул я в ответ.
Владельцы чернобурок и соболей, воспринимавшие нас как зловредных мух, тут же опустили меня в табели о невежестве и паразитстве на уровень серой вши.
Я спрятал яйцо в свою противогазную сумку. Старушенция положила хлеб в свою. Тогда все ходили с противогазными сумками. А из противогазов после войны мальчишки делали рогатки.
Дома я долго любовался яйцом, жалея, что у меня не было такого в детстве. Из этого яйца могло вылупиться все, что угодно: дракон, шаропоезд, небывалый цветок, межзвездный корабль, Дева Грез, разящий луч…
Яйцо яйцом, но, может быть, кусок хлеба как подарок для девочек в блокаду был бы полезнее? Ну нет — такой вариант я отверг сразу, как нетождественный и неторжественный. И все же хотя бы коробку конфет или торт. Я проглотил слюну, представив себе кусок торта такой высоты, что он в рот не лезет, а повернуть боком нельзя — кремовая роза обрушится на пол.
Я лежал на оттоманке, смотрел на печку, и вдруг в голове у меня вихрь пошел: там на печке должно что-то быть! Я не помнил что, но что-то я туда швырял. Я тут же полез на печку. Действительно, там было штук десять абрикосовых косточек из компота, три круглых карамельки в желтых фантиках и хлебные корки, превратившиеся в сухари.
Хрустальное яйцо сверкало, как летняя речка.
Абрикосовые косточки я разбил утюгом и съел. Хлебные корки оставил на завтра. Карамельки положил рядом с яйцом — получилось красиво. Очень красиво.
— Милая студентка Мария, активистка, вы что-то замолчали. Мы вам наскучили, вы больше не хотите нас учить?
— Просто смешно, как вас разбирает, как надобно вам нравиться. Обвесьтесь вашими медалями и двигайтесь. Театр теней существует, покуда тени двигаются. Как только тени остановятся, они уже силуэты.
— Аделаида, а где Мария? — спросил я.
— Наверно, где-то шляется с парнями. А как у вас насчет девиц?
— Аделаида, вы переходите границы!
— Отнюдь…
Девочки были нарядные. Их мама еще наряднее — в узком синем платье с белым воротничком и белой шнуровкой, как на футболке.
Кроме меня гостей не было. Я пришел поздно: отправляли на фронт машины — как всегда, что-то нужно было срочно доделывать.
— Я тоже только явилась, — сказала Наталья. — Рождались бы люди по большим праздникам — девочки на Первое мая, мальчики на Седьмое ноября, как подарки.
— А близнецы на Новый год! — закричали Аля и Гуля. Они уже сидели за столом, держали в руках ложки, кстати, серебряные. На них были банты, как крылья белых бабочек, и кружевные воротнички.
Наталья положила всем на тарелки пшенную кашу. Девочкам побольше, нам только так, для соучастия. Налила им в стаканы кисель.
Я положил перед ними яйцо и две конфеты. Третью конфету я отдал Наталье. Она тут же разрезала ее пополам.
Мы пили чай.
— Ты где это взял? — спросила Наталья, закрутив яйцо, как волчок. От него по стенам и потолку побежали зайчики.
— На Сытном рынке.
Наталья посмотрела на меня исподлобья и вздохнула:
— Что-то из него вылупится?
Девочки закричали, вытащив изо ртов ложки:
— Райская птица! — Они вообще старались не говорить, а кричать.
— Какое-то оно не ко времени, — сказала Наталья. — Такое можно дарить, когда уже все-все есть, даже велосипед. — Она снова закрутила яйцо и смотрела на него очень долго. — Мысли путает. Плакать хочется.
— Мы его спать возьмем, — сказали Аля и Гуля. — Под подушку положим. Нам приснится май.
— В мае было хорошо, — сказала Наталья.
Девочки встали на стулья и звонко прочитали стихотворение:
Ох ты Гитлер — фашист,
Бармалей и скотина…
Стихотворение было смешное. Конечно, они сочинили его втроем, в стихотворении было слово «сифилитик». Я спросил девочек, что оно означает, — девочки ответили: «Ненормальный. На всех бросается». Наталья подтвердила: «Вот именно».
После Гитлера-сифилитика, в лад размахивая руками, девочки прочитали громко «Бой Руслана с Черномором».
Потом мы снова пили чай. Наталья дала всем по кусочку пиленого сахара.
— Специально на день рождения оставила.
Потом стало поздно, и меня не пустили домой — после десяти вечера ходить по городу без пропуска не разрешалось.
Наталья постелила мне на полу за столом, чтобы я мог, не стесняясь, раздеться.
Девочки спали вдвоем на диване. Они немного поскакали в ночных рубахах, лохматые, как чертенята, спрятали хрустальное яйцо под подушку и нырнули под одеяло, чтобы быстрее увидеть май.
Наталья погасила свет и чертыхнулась.
— Темно, как в склепе. Не могу в темноте спать. Пусть луна светит и звезды. — Она подняла светомаскировочную штору из плотной синей бумаги — в такую, похоже, заворачивали когда-то сахарные головы. Наверное, на меня повлияли девчонки, и я подумал совсем по-детски: «Теперь в нее заворачивают свет».
Окно, как и все окна в городе, было перекрещено косыми бумажными крестами.
Немец бомбил теперь каждую ночь.
Завыла сирена. Девочки подняли головы, послушали и сказали сонно и безбоязненно:
— Лучше умереть в своей чистой постели, чем подыхать заваленными вонючим кирпичом в вонючем бомбоубежище.