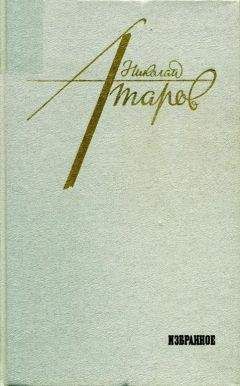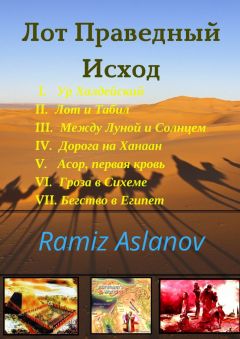Часто наведывалась Прасковья Тимофеевна. Она тосковала по Ольге — было видно, как няня постарела. Хорошая и добрая женщина с большим сердцем, только несчастная и беспомощная, не знала, как помочь Оле, как ее приласкать, приголубить. Нянькина племянница Глаша собиралась к лету отправить Прасковью Тимофеевну в совхоз, к брату. Там старой, наверно, будет лучше. Но нянька откладывала отъезд, не хотела бросить Олю. Марья Сергеевна поговорила с нянькой, растолковала, что помочь Оле — значит помочь ей кончить школу, стать на ноги. Пусть и не думает увозить с собой в деревню. Как бы там ни было хорошо для Олиного здоровья, эти мысли надо оставить.
Однажды Прасковья Тимофеевна принесла Оле подарок — пуховый зеленый капор. Митя подумал, что это изделие какой-нибудь домохозяйки в Диком поселке, и ему сразу стало грустно. Он не шелохнулся, сидел над книгами, пока Прасковья Тимофеевна, уложив на коленях руки, качалась, глядя на сиротку. А потом няня с Олей ушли в тетину комнату, и Митя слышал, как няня спрашивала Олю: «Ну, как твой?» — и видел, как няня, углядев над Олиной кроватью мамину фотографию, заплакала, нисколько не боясь растревожить девочку.
Проводили Прасковью Тимофеевну, и Оля без долгих приготовлений засела за учебник. Теперь, хотя Митя с головой ушел в подготовку к выпускным экзаменам и не мог, как прежде, помогать Оле, ее школьные дела пошли лучше. С утра вымыв посуду и прибрав свою комнату (Митину комнату по-прежнему прибирала тетя), Оля садилась на балконе в тени фикуса, когда солнце косо освещало угол дома. Потом несколько раз пересаживалась со стулом в поисках тени. Не расставаясь с учебником, входила в комнату пить воду и снова уединялась на балконе. С непонятным для Мити постоянством Оля погружалась в дела, как только они оставались в квартире вдвоем. Он не решался ей мешать, и выходило, что разговаривали они только при тете Маше. Никаких воспоминаний о прошлом! Он боялся причинить ей боль неосторожным напоминанием о том времени, когда она жила с мамой. Оля просто бежала от воспоминаний.
Глядя на Олю, как она ведет себя сдержанно, спокойно, Митя иногда задавал себе вопрос: а вспоминает ли она маму? У него не хватало воображения представить себе, что Оля способна так скрывать свое душевное состояние. И от кого же? От него, от Мити. Может быть, когда Оля стала жить рядом, он показался ей тупицей, не стоящим откровенности, пропал весь интерес к человеку? Это, говорят, бывает и в семейной жизни. Мысли эти мучили, а невозможность высказать их делала его скучным, в самом деле не похожим на себя.
Все как будто пело: она здесь, рядом! Стеклянная балконная дверь покачивалась и гоняла по стенам солнечных зайчиков, шумели женские голоса во дворе у керосиновой лавки, и словно оттого, что Оля здесь, рядом, в комнатах стояло настоящее лето.
Митя подошел к двери на балкон, уперся виском о притолоку, молча смотрел на Олю.
— Ты так не должен, — сказала Оля, подняв глаза от книги.
— Ты все делаешь сама по себе, — возразил Митя. — Садишься за учебник, как в читальне. Уединяешься на балконе, как будто меня нет.
— Ты так не должен, Митя, — повторила Оля.
Что она хотела этим сказать?
— Я не знаю теперь, что ты думаешь, чем тебе помочь, — продолжал Митя. — Может быть, я не стою твоей откровенности? Скажи…
Это был разговор вполголоса.
— Экзамены, Митя… — едва слышно произнесла Оля. — Раз экзамены, ни за что не буду тебе мешать. Не хочу и не буду.
И Митя отошел от двери. Все как будто пело: она здесь, рядом! Букет ночных фиалок в стеклянной банке на подоконнике. Это завела Оля. Вся квартира стала другая. И лестница. И двор.
Как ни странно, Олины одноклассницы тоньше Мити разбирались в ее душевном состоянии. Просто им было виднее: в школе она не так таилась. Многие видели, как на переменах она выходит во двор, где бегают и играют одни маленькие, и бродит, глотая слезы. Никто, даже самые любопытные, не решались выспрашивать у Оли то, что она не стала бы говорить. Многие одноклассницы, которые тяготились Олей с тех пор, как с ней случилось несчастье, теперь испытывали чувство облегчения оттого, что подруга живет в семье. Но были и другие, вроде Ирины Ситниковой, которые увидели в Олином переезде к Бородиным только одну сторону, ту, которую им хотелось видеть, — возможность углубления «романа». С такими Оля не стеснялась: сговорились, например, вечером в школе повторить раздел алгебры, опасались, что допоздна засидятся, — Оля лениво проронила: «А за мной Митя зайдет».
Оля попросила Нюру Бреховских пойти с ней на старую квартиру: нет ли писем для мамы? С ними увязался пяток девчат. На звонок вышел новый жилец — Оля никогда не встречала этого седого, румяного мужчину. Он передал несколько писем и говорил ласково, чувствуя, что девочке нелегко ступить через порог. Но Оля в беспамятстве не понимала, что он говорил, она заглянула в дверь комнаты и увидела мамину чертежную доску, оставленную на прежнем месте, и передвинутое кресло, а на его спинке спящего серого котенка. Только потому, что он лежал на своем излюбленном месте, Оля поняла, что это мамин котенок, которого она не взяла с собой. Вот как успел вырасти! Повернулась круто и, не простившись с новым жильцом, сбежала по лестнице.
Девочки не стали догонять. Их удержала за руки Нюра:
— Оставьте ее одну! Вы разве не видите, что с ней творится.
И когда шли без нее, то всплакнули: вернее сказать — всю дорогу глаза были на мокром месте. Только Ирина Ситникова осталась неуязвима. Пожала плечами и сказала:
— Странно! У меня даже от лука глаза не плачут.
На следующий день, возвращаясь домой, Митя еще со двора увидел на балконе Олю и Нюру. Не то чтобы они подружились, но в трудные Олины дни Нюра при всей своей безмолвной застенчивости поняла, что может быть практически полезна подруге, которая оказалась совсем беспомощной во многих жизненных вопросах.
Подруги не часто бывали у Оли, и Митя не стал им мешать. В открытую дверь он видел, как они оглядывали прищуренными от ветра глазами плоские крыши соседних домов и любезно поправляли друг дружке растрепавшиеся прядки волос. То, что дошло до его слуха, открыло ему глаза на многое, о чем он не подозревал. Оля рассказывала, как ни странно, о Пантюхове. Оказывается, нянька ходила к Пантюхову, пошумела у него в кабинете, укоряла, что родной ведь Оленьке, а забыл. И Фома Фомич встретился с Олей на улице возле школы и позвал к себе в контору. Он предлагал протекцию, чтобы ей устроиться секретаршей к одному ответственному товарищу. Оля рассказывала, как он хохотал, даже нисколько не обидевшись, когда она прямо в глаза ему сказала, что она отлично понимает, кому он собирается оказать услугу — не ей, конечно, а этому товарищу, который, наверно, одного с ним поля ягода…
— «Что ты! Я тебе, как дочери родной! Ты своими руками жизнь устраивай, на себя надейся! Даже на меня не рассчитывай. Меня все «извозчиком» зовут, но даже я тебя до самого счастья не доставлю, а только по пути могу подвезти». Он говорил: «Зачем Бородины к себе взяли, это еще надо обмозговать… Люди себе не враги, у каждого своих забот воз и маленькая тачка. И у них есть свой интерес». Понимаешь, гадина какая? — говорила Оля в каком-то горячечном возбуждении. — Он не верит, что могут помочь бескорыстно. Он искренне со мной говорил, я знаю, что искренне! Он так и думает, что нельзя ни на кого полагаться. А я ненавижу его, ненавижу! Ненавижу его здравые советы, его мещанские мыслишки, его бритую черепушку.
Вдруг Митя почувствовал всю Олину оторопь перед жизнью, которую по-своему открыл ей «извозчик». Только зачем же приходится нечаянно подслушивать такое? Почему она молчала об этом? Да ясно же — помнит их ссору в день рождения! И потом, как же она скажет о том, что кто-то, пусть даже прожженный подлец, заподозрил их тут в корысти! Ведь передать чужое оскорбление — это значит в чем-то присоединиться к нему. Вдруг по-новому, ее глазами взглянул он на себя, на свою семью, сообразил, что теперь для Оли означает его семья. А он-то еще тревожился из-за такого пустяка, что тетя Маша зовет Олю на «вы». Да разве это имеет значение!
И он на цыпочках через кухню вышел из квартиры, зашагал по улицам, обдумывая свои открытия.
А Оля и Нюра еще долго разговаривали на балконе. Оля прочитала Нюре одно из тех писем, которые передал ей вчера незнакомый человек в старой квартире. Из Москвы писал Еремей Ильич Брылев, — видно, тот самый Ерема из маминой сказки. Не зная о смерти Веры Николаевны, он писал все о том же — о перевозках кирпича в контейнерах, о каких-то браслетных запорах. Там была одна строчка: «В Москве меня поддерживают, но без вас, Вера Николаевна, без вашей помощи будет нелегко». И тут Оля перестала читать и только повторяла: «Нелегко… нелегко… нелегко…»
А потом тоненько, чтобы в комнатах не было слышно, они запели свою любимую: