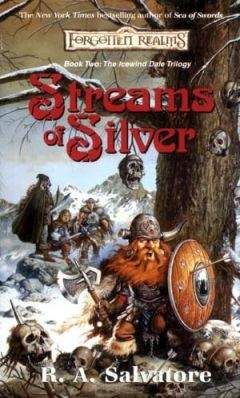— Видишь ориентир? Выполнили первый виток, — почувствовав его способность к восприятию, заговорил инструктор.
Им по заданию полагалось выполнить два витка, два скоротечных оборота, а затем повторить все сначала. Не успел Одинцов разобраться, где же эта деревенька, а инструктор уже дал отсчет:
— Второй виток, выводи!
Теперь от Одинцова требовались точные и быстрые действия. Однако он все еще не мог выйти из состояния растерянности, мобилизоваться. Больше всего он боялся сейчас ошибиться, лихорадочно вспоминая последовательность движений — согласно инструкции — то, о чем он так хорошо рассказывал на земле. И еще где-то в уголке сознания тлела — малодушная надежда, что инструктор сам выведет самолет из штопора. Раз мог ввести, значит, должен хотя бы начать выводить…
— Третий виток! — оказывается, Хохлов не собирался и пальцем пошевелить, чтобы помочь. — Выводи!
Одинцов поспешно, не давая себе отчета, двинул вперед правую педаль, а следом и ручку управления.
— Ох, мать моя родная! — только и вздохнул инструктор. И еще сказал что-то неразборчиво.
Одинцов действовал не самым лучшим образом. Получалась, что он остановил вращение на полувитке, и самолет продолжал снижение в перевернутом положении, так что летчики оказались вниз головами.
— Слушай, хватит, а? — попросил его Хохлов. Было очевидно, что такой полет не доставлял ему большой радости.
Но Одинцов уже взял себя в руки. Теперь он знал, что делать. Собственно, знать-то ничего особенного не надо было: тяни ручку на себя, да смотри за перегрузкой, а то и самолет развалить можно, сложатся крылышки как у бабочки.
— Энергичней, не теряй много высоты, — легонько поддернул Хохлов ручку управления.
Николай послушно увеличил усилие, самолет маятником прошел положение отвесного пикирования, по крутой дуге выровнялся в горизонтальный полет и вновь взмыл в небо.
Одинцов торжествовал. «Только и всего? — с легкостью, которая приходит после тяжелых минут опасности, думал он о штопоре. — Да там же делать нечего!» Ему стало радостно и свободно в этом теплом небе, он готов был ринуться вприпрыжку по зарождающимся внизу редким островкам «кучевки».
«Разве это фигура — штопор? Семечки! Зря только страху нагоняли! Да я вам его сейчас повторю! Запросто!»
Теперь все, что несколько минут назад происходило в воздухе, казалось делом его рук и воли. Он радостно смотрел вниз, на землю, вправо-влево, будто открывал небо заново, лишь теперь замечая высокую голубизну майского утра.
Он в небе — уже не чужом, пустом и страшном, теперь уже он знал точно: отныне и навсегда оно — его дом. Как там поется в песне? «Небо наш, небо наш родимый дом!..»
Одинцов праздновал победу, наивно полагая, что это только его личная победа. И упиваясь ею, он, кажется, увлекся немного с набором высоты.
— Тяни, тяни, — вернул его к действительности насмешливый голос Хохлова в наушниках шлемофона. — Газ не дал, а тянешь. Сейчас без скорости сковырнешься в другую сторону…
«Нет уж, не выйдет», — немного рисуясь перед собой, одним движением установил Одинцов мотору номинальный режим работы.
— Ну что, повторим? — не без скрытой улыбки спросил. Хохлов.
— Так точно! — с готовностью отозвался Николай. — Разрешите набирать высоту?
— Набирай, набирай!
Хохлов снял руки с органов управления, расслабленно откинулся на спинку сиденья, предоставляя курсанту полную свободу действий. Теперь инструктор был спокоен.
Николай Одинцов уверенно увеличил угол атаки, твердо зная, что вот сейчас он пошел в набор своей высоты.
Он был счастлив, но не знал, что счастлив и капитан Хохлов: летчик родился!
Они еще курсантами, лет пятнадцать назад, летали вместе, но так и не стали друзьями. Завалов ближе всего сошелся с Воскресным, когда их откомандировали переучиваться на новую технику; два лейтенанта из одного училища в незнакомой среде, естественно, держались друг друга.
Однажды они пришли в гостиницу навеселе, старательно поддерживая друг друга, и их приметили. На следующий день обоих вызвал начальник курса.
— Зачем нам гореть обоим, Сергей, — развел руками Костя Воскресный. — Ты знаешь, какое у меня положение.
В критической ситуации каждый считает свое положение безысходным. А у Кости к тому же начиналась любовь с дочкой генерала, и он не хотел быть скомпрометированным. На «коврике» у начальника учебно-летного отдела Завалов сказал, что, устанавливая себе норму, он немного ошибся, перебрал, а Воскресный был совершенно трезв и вел его.
На этом сближение однокашников и кончилось.
Вскоре они вообще расстались: после переучивания Воскресный женился на дочери начальника учебно-летного отдела и остался возле нее, а Завалов уехал в свою часть.
Они встретились снова лет через семь. В аллее в далеком гарнизоне руку капитана Завалова энергично тряс сияющий майор Воскресный в новой тужурке с многообещающим ромбом академии. За время разлуки перемены произошли не только в звании. Время заметно изменило их, резче выразило те черты, которые в их лейтенантской юности только намечались.
Завалов, казалось, стал еще выше, еще больше раздался в плечах и похудел, а на висках появилась седина, заметно старившая его.
Костя Воскресный, напротив, выглядел моложе своих тридцати. Он стал вроде бы круглее, приземистее, как бы обтекаемее, с широкой открытой улыбкой на нежно-розовом лице. Пожалуй, полнота только и выдавала, что он отнюдь уже не юноша.
— Приехал к вам на должность замкомэски, — сообщил он. — Ну а ты как?
— Летаю на заправку днем и ночью.
— Ого, асом стал. А должность, должность как? — скользнул взглядом по капитанским погонам Завалова.
— Командир корабля.
— А-а-а.
Он спросил еще о детях, о жене и заторопился.
— Ну пока, Сергей. Я спешу, мы должны встретиться поближе, вспомнить прошлое.
— До свидания, товарищ майор.
— Ну что ты, Сереж? — приостановился Воскресный. — Для кого майор, а для тебя… Константин Павлович.
Завалов, опуская взгляд, кивнул и подумал, что «поближе» они никогда не встретятся.
В полку майору Воскресному не везло. За полгода три предпосылки к летному происшествию: посадил машину до полосы; дважды, неумело пользуясь тормозами, полностью «разувал» самолет, сжигая покрышки.
Кое-кто уже втайне побаивался с ним летать. Завалов, узнав, что по сложному варианту, при низкой облачности, запланирован у него инструктором Воскресный, подумал, что надо быть повнимательнее. На следующий день действительно установился «минимум»: низкая, хоть шестом доставай, облачность, размытый горизонт за сизой дымкой.
Это было время весны, конец марта, когда тепло набирало силу и на полях отдельные проталины стекались в раздольное, маслянистое, будто из нефти, море, на котором одинокими островками блестел глянцевой коркой выветрившийся колючий снег. Сверху земля походила на пенистый прибой, скрывающий посадочную полосу, и самолет приходилось пилотировать только по приборам почти до точки выравнивания.
Им оставалось выполнить последний, третий полет.
— Дай, Сереж, я этот круг сделаю, — попросил Воскресный, и Завалов отпустил штурвал. «Надо смотреть», — подумал он, неторопливо стаскивая влажные перчатки.
Летчик показывает себя на предпосадочной прямой после четвертого разворота. Полет — это работа, где требуется высокая организация человека, способность чувствовать детали, ювелирная точность движений и, как любая другая работа, выражает личность: интеллект, требовательность к себе, мужество.
Воскресный напряжен. Его лицо сосредоточенно, губы крепко сомкнуты, на крыльях носа появилась испарина. Без напускного глубокомыслия лицо его кажется простодушным, как детский рисунок.
— Полоса слева, двести, — сформируют с земли.
Инструктор, не раздумывая, поспешно вводит машину в разворот, чтобы побыстрее загнать стрелку «курсовика» на ноль, и самолет по инерции проскакивает створ полосы.
— Справа сто пятьдесят, — докладывает руководитель посадки.
Правый крен, потом снова левый доворот, и заход получается по «синусоиде» явно не показательный.
Сосредоточив все внимание на выдерживании курса, Воскресный забывает о высоте и вдруг, заметив, что идет выше установленной, бросает машину на снижение, стягивает рычаги оборотов до малого газа.
Тяжелые, иссиня-чериые, цвета мокрого снега облака плотным слоем окутывают самолет; даже не видно концов плоскостей. Без видимости земли теряется ощущение полета. Но в подсознании живет чувство опасности, и от летчика требуется усилие воли, чтобы хладнокровно продолжать «слепое» снижение.
Воскресный нервничает, непрерывно «сучит» штурвалом, создает ненужные крены, разбалтывает самолет. Эта суетливость была его старым недостатком — еще с училища, но тогда Завалов зажимал штурвал двумя руками и говорил нарочито спокойно: «Расслабься, Костя, все успеем». Но тогда они были курсантами. А теперь Воскресный — инструктор.


![Роберт Сальваторе - Серебряные стрелы [Серебряные потоки]](https://cdn.my-library.info/books/63242/63242.jpg)