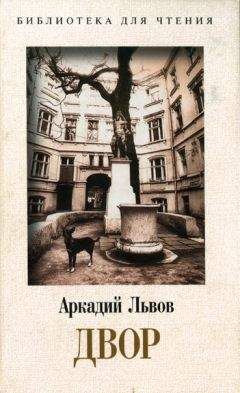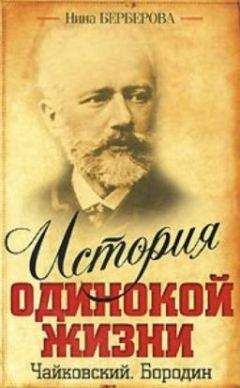На кладбище дорога шла по улице Карла Маркса. Когда пересекали проспект лейтенанта Шмидта, встретили роту красноармейцев. Рота шагала в гарнизонную баню, бывшую Исаковича, и пела про щи горячие да с кипяточечком, про штурмовые ночи Спасска и волочаевские дни, а перед похоронами остановила песню: слышно было только, как топают по булыжной мостовой тяжелые красноармейские сапоги.
— Дай бог, чтобы никогда не было войны, — прошептала Аня Котляр.
Дина покачала головой — если бы это зависело лишь от нашего СССР — оглянулась по сторонам, наклонилась поближе к Ане и сказала: между прочим, Исакович, который был караим, держал не только бани. Говорят, он имел еще три или четыре бардака, один — в Красном переулке. В этом переулке целый квартал занимали бардаки, ход был прямо с Дерибасовской.
— Какой ужас! — Аня закрыла лицо руками. — Возле самой Дерибасовской — и люди не стеснялись туда ходить!
— А наша мадам Орлова, — пожала плечами Дина.
— Перестаньте! — возмутилась Аня. — Я не верю.
— Она не верит, — Дина толкнула Аню в бок. — От этого никому ни холодно, ни жарко. Красный переулок до революции тоже назывался Красный: возле каждых ворот висел красный фонарь.
Яма для Киселиса была в левом углу от входа: справа оставался памятник писателю Менделе Мойхер-Сфориму от Одесского губисполкома, братская могила жертв еврейского погрома 1905 года, со стеной чуть не в четверть километра, дальше несли гроб по главной дороге, мимо ряда раввинов и могилы Кангуна, двадцатилетнего командира Красной Гвардии.
Попрощались молча, на душе было тяжело. Чеперуха на обратном пути завернул в погребок ОСХИ. Потом он целый вечер сидел в форпосте и доказывал, что Киселису надо еще завидовать: человек до последней секунды улыбался и мог рассуждать с мадам Малой. Кроме того, ему дали неплохое место, и родственники не выли у него над головой, а его родной брат Лазарь, который, говорят, открыл в Нью-Йорке собственную галантерею, теперь будет иметь на одного наследника меньше. Что тут можно добавить, про такую смерть другие, например, тачечник Чеперуха, могут только мечтать.
— Ципун тебе на язык, — рассердилась Клава Ивановна, — подумай лучше про своего сына и жену, шикер несчастный. Если ты не возьмешь себя в руки, мы сами примем меры.
— Малая, — заплакал пьяными слезами Чеперуха, — не кричи на меня, а то я испугаюсь и буду заикаться, как дети. Я хочу предложить тебе хабар: ты сядешь на тачку, и мы вдвоем съедем по Потемкинской лестнице. Вся Одесса сбежится на бульвар и будет завидовать.
В пятницу, пока не появились звезды субботнего вечера, Соня Граник, с Осей и Хилькой, хотела зайти в синагогу, чтобы сделать пожертвование в память об усопшем. У ворот, большой чугунной решетки из двух створок, Оська вдруг вырвался и побежал домой. Позже в квартире был нехороший разговор, с криками и плачем, слышно было в коридоре, Ефим взял сторону сына, потому что в наши дни стыдно смотреть в глаза людям, когда твоя собственная жена возится с раввинами и темными евреями из Гайсина, ты доказываешь ей, что день — это день, а она все равно как об стенку горохом.
Клава Ивановна похвалила Оську и сказала, теперь она видит, что имеет дело с человеком, который держит свое пионерское слово и не бросает его на ветер. Потом она дала обещание записать Оську в шумовой оркестр: он будет играть на треугольнике, а если найдут, что у него хороший слух, дадут балалайку или мандолину.
— С медиатором? — спросил Оська.
— О, — воскликнула Клава Ивановна, — тебе, как мед, так ложкой! Обойдешься без медиатора.
На другое утро Оська разрезал Хилькину целлулоидовую куклу, сделал себе десять медиаторов, а остатки выбросил в уборную: это было самое надежное место — канализация уходила далеко в море и неизвестно, где кончалась.
Хилька целый день плакала, мама сбилась с ног в поисках, Оська тоже старался изо всех сил, но куклу так и не нашли. Соня объяснила мужу: кукла как в воду канула. В первый миг Оська испугался, а потом испуг прошел, и ему сильно захотелось хлеба с маслом, сверху повидло. Соня обрадовалась: ребенок давно уже не просил сам кушать.
— Китаец, — сказал Ефим, — за сутки съедает мисочку риса, а корейцы кушают соевые бобы, хлеба там вообще не знают.
— Несчастные дети, — вздохнула Соня. — А МОПР им ничего не посылает?
— МОПР не может всем посылать, он не имеет своего банка, — рассердился на жену Ефим. — МОПР дает помощь шахтерам, когда они бастуют.
— А другим разве не надо кушать? — цеплялась за свое Соня.
— Дурацкие рассуждения! — еще больше разозлился Ефим. — Когда всех нельзя накормить, в первую очередь кормят тех, кто на баррикадах не только за себя одного, а за весь рабочий класс, за весь мировой пролетариат.
Тридцатого числа, накануне нового месяца, к мадам Малой опять пришел человек из Сталинского райфинотдела: имеются данные, что Ефим Граник утаивает часть заказов от налога.
— Товарищ, — спросила Клава Ивановна, — у тебя есть лошадь?
— Зачем мне лошадь? — удивился товарищ.
— А я тебе объясню, зачем: у лошади большая голова — крути ей голову. Давай вместе зайдем к Гранику, я тебе открою его шкаф, шифоньер и все мешки, где он держит свои замшевые туфли.
— Уважаемая, — обиделся финагент, — я не пальцем сделанный, и не надо представлять меня дураком, больше чем на самом деле. У вас своя работа, у меня — своя, сегодня вы обязаны помогать мне, а не я вам, и давайте лучше не будем ссориться.
— Послушай, — сказала Клава Ивановна, — я тебе повторяю русским языком: ты не там ищешь.
— Вы ручаетесь своей головой?
Клава Ивановна ответила, да, она ручается своей головой, и тогда товарищ из финотдела сообщил под секретом, что поступило письмо из этого двора, от кого, он не имеет права открывать: это служебная тайна.
— И какому-то паршивому сексоту ты поверил больше, чем мне! — поразилась Клава Ивановна. — Еще раз, и я не пущу тебя на порог. Иди.
Финагент не попрощался, хлопнул дверью, но еще до этого успел сказать, что ее, Малую, тоже надо хорошенько проверить, не вербует ли она заказчиков Гранику. Под процент.
— Дурак! — крикнула ему вдогонку Клава Ивановна. — Первый дурак на всю Одессу.
Из-за финагента у Клавы Ивановны был неприятный разговор с Дегтярем. Он твердо обещал, что финорганы будут поставлены в известность насчет поведения своего сотрудника, но, с другой стороны, как представитель тройки, она, Малая, тоже должна хорошо помнить свое место и ставить на первый план свои обязанности перед советской властью, а не свой гонор. Это не имеет значения, что в данном конкретном случае Малой попался дурак, у нас еще есть дураки, но никто не давал ей права забывать: сегодня этот человек выполняет дело, которое ему поручило государство. Тебе не нравится, как он выполняет, сообщи куда следует. А самоуправства не допускай: у советской власти хватит силы дать любому по рукам.
Клава Ивановна ответила, что не будет оправдываться, но попросила Дегтяря представить себе на минуточку, что он сидит на вокзале и собственными глазами видел, как ушел последний поезд, а через час, когда поезд уже в Раздельной, к нему пристает дурак с билетом на руках: а может, вам только показалось, может, поезд уходит сегодня на час позже?
Иона Овсеич признал пример удачным, но от своего не отступил: всякие параллели, исторические и неисторические, одинаково опасны — сначала как будто становится яснее, а на самом деле они только затемняют факт и отвлекают в сторону. Клава Ивановна открыла рот, видимо, хотела возразить, но Иона Овсеич сказал, хватит, не будем разводить антимонию, и перешел к следующему вопросу — насчет списков избирателей.
Со списками оказалось много осложнений, которые наперед трудно было предвидеть: то имя не совпадает, в паспорте еврейское, а в жизни русское, то год рождения неправильный — у того пол не так записал, этот сам себе прибавил, а некоторые, особенно женщины, просто выдумывают.
— Зачем? — удивился Дегтярь.
— Что значит, зачем? Витрины со списками выставляют на улицу, а женщина стыдится, чтобы все знали, сколько ей лет на самом деле.
— Да, — Иона Овсеич растер ладони и крепко сплел пальцы, — каждому что-то не нравится в собственной автобиографии, каждый хотел бы немножечко изменить и подчистить.
Не удивительно, сказала Клава Ивановна, человек всю жизнь имел над собой хозяина, тот делал все по-своему и никого не спрашивал.
— Малая, — Иона Овсеич закрыл глаза, — у тебя в голове иногда хорошая каша: я тебе — за Ивана, а ты мне — за Петра.
Ладно, вздохнула Клава Ивановна, за Ивана, за Степана, за Петра, а начали с Граника и по дороге потеряли.
— Малая, — Иона Овсеич открыл глаза и опять закрыл, чувствовалось, что человек немного устал, — в художественной мастерской на Греческой требуется специалист. Я звонил туда по телефону.