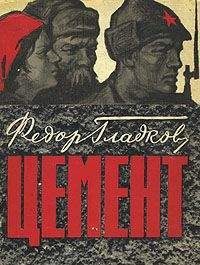— Ребятки, а ну-ка — сюда!.. Возьмите вот… очень свежий хлеб… Ведь голодные же, малыши!..
Мальчики насторожились и быстро вскочили на ноги. Но тетка улыбалась им ласково, по-домашнему, и была совсем не страшная. А главное — в руке большой кусок хлеба. Повязка наводила страх (они давно знают, какая сила в этой повязке), но хлеб был свежий и издали опьянял сладким запахом.
— Да, да… иди, а ты — в приют… знаем… хорошая живодерня.
Один из мальчат встряхнул лохмотьями и бросился наутек. Даша засмеялась и разломила хлеб пополам.
— Да идите-же, поросята!.. Зачем мне вас — в приют?.. Берите хлеб и удирайте…
Тетка такая веселая и ласковая (если б не красная повязка!), и хлеб — золотой, как мед. Ребята верили ей и не верили.
Переглядываясь, они трусливо подошли к ней и издали протянули руки. Даша дала одному, дала другому. Хотела погладить их по кудлатым волосам, но они взапуски побежали по бульвару.
…Нюрка — в детдоме, а чем она счастливее этих голых мальчат? Однажды Даша увидела, как Нюрочка вместе с другими ребятами копошилась в свалке на задворках столовой нарпита. Ей тогда почудилось, что Нюрка уже умерла, что она, Даша, — уже не мать ей, что Нюрка брошена на голод и муки по ее, Дашиной, вине. И случайные ее ласки в детдоме — не ласки матери, а пустоцвет. И от самой свалки до детдома она несла Нюрку на руках, а сердце рвалось от боли. Бадьин стоял на тротуаре.
— Товарищ Чумалова, садитесь — едем.
Не ожидая ее, он вскочил в фаэтон, и экипаж заколыхался под ним всеми рессорами. Даша села рядом с ним и почувствовала, как его бедро упруго придавило ее своей тяжестью.
Бадьин уже не видел её — был замкнут, холоден и суров, как обычно.
— На автомобиле не проедешь. В горах даже на этой трясогузке придется пробираться черепашьим шагом. Ты не боишься бандитов? Я ничего не беру с собою, кроме нагана. Может быть, взять конных красноармейцев?
Даша взглянула на него — не боится ли сам Бадьин? Но лицо его было спокойно и неприятно самоуверенно.
— Не знаю, как ты, товарищ Бадьин, а я привыкла ездить без провожатых.
— Трогай, товарищ Егоров!
А товарищ Егоров испуганно взглянул на предисполкома, что-то хотел сказать, но не решился. Он крякнул и заиграл вожжами.
И пока ехали по городским мостовым, оба молчали, и Даше было необычно приятно и весело качаться в удобной и мягкой качели.
С тротуара закивал Сергей и дружески заулыбался. А Жук, как увидел их в фаэтоне, так и остановился, пораженный.
Бадьин брезгливо скривил толстые губы в усмешку.
— Не выношу этого типа…
— Это — чванство, товарищ Бадьин. Товарищ Жук — хороший токарь и крепкий коммунист.
— Товарищ Жук — просто лодырь и склочник. Таких надо обязательно гнать из партии.
— Нет, товарищ Бадьин: товарищ Жук — хороший… он откровенно говорит правду. А когда он изобличает — вы все сердитесь. Разве это — дело? И разве не правда, что вы, ответработники, видите рабочий класс только из своего кабинета?
— Ты ошибаешься. Кабинет ответработников — ближе к рабочему классу, чем такие сутяги, как, например, твой хороший товарищ Жук. Потому что через этот кабинет проходит все, начиная от сложных государственных вопросов, кончая мелочами быта. В кабинете же ответработника я познакомился и с твоим мужем.
Город уже был позади. Ехали долиной: слева были пологие взгорья в виноградниках, справа — лес, еще голый, но уже туманный от лопнувших почек. Всюду двигались толпы стволов: передние уходили назад, а задние, минуя друг друга, скользили вперед вместе с фаэтоном, и казалось, что лес кружился, волновался жил своей дремучей жизнью.
— Ну, а как ты сейчас насчет семейного счастья? С одной стороны — супружеские обязанности: общая постель и грязное белье А с другой — партийная работа. Потом у вас, кажется, есть потомство? Придется выбирать: или женотдел, или домашние заботы. Муж, вероятно, уже требует особых прав. Он у тебя — парень с большим характером.
Даша отодвинулась в угол экипажа.
— Мой муж — сам по себе, а я — сама по себе, товарищ Бадьин. Мы — коммунисты прежде всего…
Бадьин засмеялся и положил руку на ее колени.
— Ты говоришь, как все коммунистки, но у тебя это звучит несколько правдоподобнее: у тебя это бьет из нутра. Я уже знаю, как с тобой трудно найти общий язык…
Даша сбросила его руку и подобралась к самому краешку фаэтона.
— У коммунистов, товарищ Бадьин, всегда должен быть общий язык.
Бадьин опять замкнулся и отяжелел. Он отодвинулся от Даши.
И до ущелья — по-утреннему сумеречного от скал и лесных зарослей, в гремучих ручейках и кучках разноцветного щебня — они молчали и смотрели в разные стороны. Но Даша чувствовала, как волновался Бадьин: знала, что он борется с собою и не решается броситься на нее при Егорове. И она сама дрожала от ожидания и тревоги. Если бы это случилось сейчас, она не смогла бы бороться с его взбешенными мускулами: зыбкое бултыханье фаэтона по ухабистой дороге ущелья выбивало из-под ее тела надежную точку опоры.
Ущелье тянулось на три версты, а за ним по широкой загорной долине шла укатанная дорога к станице, утопающей в садах.
Горы громоздились в утесах и крутых склонах до самого неба. Всюду — обвалы в извивах складок и кучи камней и щебня, а ребра гор стекали от вершин расплавленным металлом. Внизу, над лесом и зарослями кустарников, дрожала и волновалась дымная мгла. И небо над горами и лесом казалось голубой рекой, а облака — белыми льдинами.
Дорога виляла между скал и камней и вправо, и влево, и вниз, и вверх. Впереди был сплошной лес в путаных веревках лиан, в охапках плюща и кустарников, но как только въезжали в заросли — лес и мшистые камни, и скалы, облитые слезами подпочвенных вод, отползали и вправо и влево, проваливались в обрывы и карабкались на утесы. Ух, какая страшенная высота! Даша жмурилась и замирала от падающего взлета скалы. Товарищ Егоров изогнулся на облучке и взметнул бородою.
— Товарищ предисполком, зря не погнали конницу… Тут мешочников не щадят кажин день, не то ли что… Ошибку дали, товарищ предисполком…
Бадьин, замкнутый, спокойно сидел в подушках фаэтона. Даше было душно и больно от тяжести его тела и в то же время приятно, что этот человек — надежная опора в лихой час. Бадьин усмехнулся и в упор посмотрел в бороду Егорова.
— Трусость — опаснее бандитов, товарищ Егоров. Знай свое дело и держи крепче вожжи в руках. Дорога не так плоха.
Егоров заробел и сутулился. Он уже не чмокал на лошадей, а только дергал вожжами, крутил головою по сторонам и захлебывался от обильной слюны.
Проехали еще с версту. Даша чувствовала, как Бадьин вздрагивал всеми мускулами, и было видно, что он изо всех сил борется со своим волнением и скрытыми порывами. Он глубоко вздохнул и схватил Дашу за плечи.
Даша закорчилась, чтобы освободиться от его рук, но Бадьин крепко стиснул ее, рванул к себе, и она на мгновение увидела его огромную голову и страшное лицо.
Их дернуло вперед и подбросило па фаэтоне. Грохнул и полыхнул к небу лес.
Даша видела, как Егоров заболтался из стороны в сторону на облучке и кувырнулся набок, на переднее колесо. В то же мгновение Бадьин оторвался от Даши, прыгнул вперед и взмахнул вожжами. Лошади забились и заволновались в дышлах.
— Стой!.. Руки вверх!.. Попались, цаповы души!..
Из-за скал и из-за черных пустот зарослей с винтовками в руках карабкались черкески и мохнатые папахи.
Даша видела только эти папахи и волчьи глаза. Близко, около нее, спотыкаясь, бежал к лошадям белобрысый казак без шапки, брызгал слюной и выл от хохота.
Даша успела только крикнуть одним коротким вздохом:
— Бадьин, гони!..
И слетела с фаэтона прямо на казака, и упала вместе с ним на щебень, в придорожную ямину.
Сразу же ее раздавила невыносимая тяжесть, точно на нее навалилась большая толпа, заплясала по ней каблуками и втиснула ее в узкую щель. Били ли ее, была ли стрельба и погоня — совсем не помнила, а когда очнулась — стояла у скалы, и целая шайка дышала в нее удушливым смрадом мокрой шерсти. Её рвали, крутили руки и драли за волосы.
— Баба!.. Одна баба осталась на нашу долю… Стыдно даже руки марать, будь она проклята!..
Фаэтона не было, и только далеко, в ущелье, будто катились по отвалам в каменоломнях. И как только Даша этот далекий топот, сразу пришла в себя. Товарищ Бадьин — там… далеко, на дороге… Товарищ Бадьин невредим…
Через дорогу, против Даши, с задранной ногой на скалу (нога босая, в опорке), в ворохе кучерского кафтана, лежал Егоров, а на самой дороге — растоптанная шапка. Волосы, ухо и клок бороды заливались кровью.
За ребром утеса фыркала и брыкалась лошадь и гремела удилами. Туда и оттуда перебегали в одиночку казаки с обалделыми лицами.
— Веди сюда!.. Какого там черта они голову морочат?..