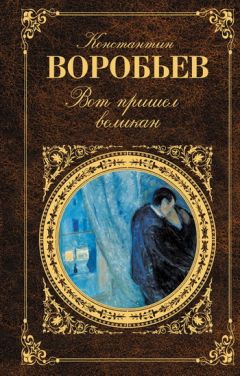— Ничего. Почему ты мне не позвонил за все утро?
— Который однажды что?
— Не допытывайся, Антон. Я не скажу.
— Нет, ты обязательно скажешь. Сейчас же! — сказал я.
— Ну ладно, горе ты мое… Я хотела пошутить насчет твоего сторожа ФЗУ, но вспомнила свою учительницу, и дошучивать не захотелось. Удовлетворен?
— Да, — сказал я.
— А почему ты не звонил?
— Ждал, пока ты проснешься после проводов.
— Я совсем не ложилась, глупый!
— Тогда слушай сюда, — сказал я. — В семнадцать ноль-ноль мы едем венчаться…
— Куда венчаться? Что ты опять выдумываешь? Я же тебя просила…
— Мы обвенчаемся на озере, одни. Совсем без никого. Отсюда это сорок километров. Вернемся утром в понедельник. Едешь?
Она молчала.
— Ты вернешься домой, на свою Перовскую, — пообещал я. Дыхания ее не было слышно, и мне очень хотелось знать: как она меня слушает, стоя или сидя? Сам я стоял.
— Что надо взять с собой? — издалека спросила она.
— Хлеб, десять брикетов дрожжей, перец для ухи и две ложки, — сказал я, все остальное найдем там.
— У кого найдем? Ты же говорил, что мы будем только вдвоем!
Я объяснил, что там живет одна моя знакомая бабка.
— А зачем нам дрожжи?
Это я объяснил тоже.
— Хорошо, — покорно сказала она. — Я буду ждать там, где всегда.
— Ничего подобного! Я приеду за тобой на Перовскую. Ровно в пять, сказал я. Она молчала, и я не слышал ее дыхания.
Эта наша пятница выдалась тогда как по заказу — было солнечно и жарко, но без зноя, и поднебесно-широкий полет городских стрижей обещал такую погоду по крайней мере еще дня на три. Мы, наверно, раскинем палатку, думал я, на моем прежнем месте и до заката солнца успеем словить что-нибудь на уху. Хотя бы десяток окуней. Этого вполне хватит. Надо только не забыть остановиться при выезде из города возле молочного магазина и прихватить две банки из-под сметаны заместо рюмок: я вез бутылку шампанского и пол-литра польской чистой водки выборовой. Еще в тот раз, когда я подвозил на улицу Софьи Перовской матрац, мне подумалось о доме под номером десять, что жить в нем, наверно, невесело и трудно: дом был трехэтажный, готически стремительный и узкий, из красного глянцевитого кирпича старинной выделки. Это был какой-то сумрачно-холодный и прочный голландский особняк, а не русский дом, а сколько можно жить в голландском особняке за его кирхообразными стрельчатыми окнами, если знать, что рано или поздно, но все равно надо будет собираться домой! Он стоял в глубине, а не в линию с соседними домами, и поэтому широкий квадрат тротуара перед ним казался пустым и неприветливым, как запретная зона. Я подъехал к этой зоне ровно в пять часов, захватил розы и пошел в подъезд особняка. Там оказалась железная, колокольно крутая и тесная лестница, поэтому рюкзак, который несла Ирена, не помещался сбоку, и она спускала его впереди себя.
— Ты сумасшедший! Скорей иди в машину! — сказала она мне шепотом, глядя не на меня, а на розы. Я подал их ей издали с нижней ступеньки лестницы, и она выпустила лямку рюкзака и пошла к „Росинанту“ дробными неспорыми шагами, неся перед собой розы, как носят факел. Она была в белом платье и голову держала прямо и напряженно, будто все те прохожие, что встречались нам на тротуаре, знали куда и зачем она идет. Я шел раскачной корабельной походкой в полутора шагах сзади, чтобы загородить ее от окон особняка, и рюкзак прижимал к животу, чтобы его тоже не было видно из окон. Ирену прибило не к передней, а к задней дверце „Росинанта“, и я впустил ее внутрь, положил рядом рюкзак и совершенно серьезно — для тех, кто хотел слышать, — спросил ее, как глухую, за кем сперва заезжать, за товарищем Владыкиным, или за Дибровым?
— За товарищем Дибровым сначала, пожалуйста, — сказала Ирена. На окна я не оглядывался, но подумал, что „Росинант“ мог быть поновей и посолидней, не обязательно „Волгой“, но хотя бы „Запорожцем“. Он снялся с места рывком, и о банках из-под сметаны мне вспомнилось уже за городом при съезде на лесной проселок, что вел к озеру. Там я остановился и перевел Ирену на переднее сиденье.
— Ну, здравствуй! — сказал я ей. — Спасибо тебе за белое платье.
— А тебе за розы, — растроганно сказала она.
— Я хороший у тебя малый?
— Да, — сказала она. — Но ты совсем сумасбродный. Как ты мог явиться с ними на виду у всех? Что же будет потом, после?
С нами, значит, ехал Волобуй. И Вераванна. И Владыкин с Дибровым. И весь город. Проселок был разбит и разъезжен тракторами. Я норовил держаться между колеями, но диффер зарывался в песок, и приходилось то и дело переключать скорости, выжимать до отказа газ, злиться на „Росинанта“ и на то, что черную розу Ирена устроила в середину трех белых, — она, значит, не хотела, — ну и пусть не в самом городе, а тут вот, в лесу, — вышвырнуть ее за окно! День для меня померк, и ехать становилось все трудней и трудней. Я смотрел вперед, молчал и не видел Ирену.
— Вот там, кажется, можно развернуться, — сказала она мне в плечо так, будто мы только за тем и забились на этот проселок, чтобы найти место, где можно развернуться. Я сказал „да“, вырулил на полянку и развернулся. Я поехал по своему же следу, но с удвоенной сосредоточенностью, а сердце кричало Ирене, чтобы она сейчас же приказала мне остановиться!
На шоссе я закурил и увеличил скорость, — мы возвращались в город.
— Дай мне, пожалуйста, сигарету тоже, — бесстрастно сказала Ирена. Она не смотрела на меня и розы по-прежнему держала на весу, как держат подсвечник с горящими свечками. На мое вежливое „ради бога“ она с неподражаемым достоинством сказала „благодарю“ и закурила и отвела от себя сигарету тем плавно грациозным движением, которое доступно только женщине с тонкими аристократическими руками. Я ехал, намечал телеграфные столбы и ждал — вот у этого или у того она прикажет остановиться. Или взглянет на меня, этого вполне хватило бы, чтобы я повернул назад. Но она молчала, а когда мы достигли пригорода, отстраненно проговорила, что выйдет тут. Я сказал „как будет угодно“ и стал притормаживать. У меня ломило в затылке, и сердце я ощущал в груди так, будто там ворочался ежик и устраивал себе гнездо. Ирена вышла из машины, и я подал ей рюкзак. Она взяла его в левую руку, потому что в правой держала розы, и пошла к автобусной остановке. Рюкзак бил ее по ногам и волочился по тротуару, а я сидел в машине под властью какой-то немой сладострастной муки саморазорения и ничего не мог поделать — ни позвать ее, ни шевельнуться.
Вряд ли можно объяснить, зачем мне понадобилось ждать, пока уйдет автобус, в котором скрылась Ирена, и лишь после того погнаться за ним. Я несколько раз обходил его, а на остановках выбегал из „Росинанта“ и становился у выходных дверей автобуса, — Ирена всякий раз видела меня, но автобус уходил, и я обгонял его снова. На пятой остановке — уже перед центром города — она тем же приемом, что и на лестнице своего дома, спустила со ступенек автобуса рюкзак, и я забрал его у ней, а ее взял под локоть и повел к „Росинанту“, как слепую, — немного впереди себя. Розы она несла в правой руке. Они растрепались и сникли, — их можно было выбросить к чертовой матери все. Я сказал ей об этом уже в машине. Сказал я и о черной — для чего ее покупал и что имел в виду.
— О, какой дурак! Какой дремучий дура-ак! — изумленно ахнула Ирена. При чем тут Волобуй!
Она выпустила за окно черную розу и заплакала тихо, горько и беспомощно. Видеть это было невыносимо, и как только мы опять очутились за городом, я самобичующе сказал, что она еще не представляет себе, какая я несусветная сволочь! Ирена перестала плакать и притаенно насторожилась.
— Ты думаешь, Волнушкина не права насчет того, что я самовлюбленный пижон? — спросил я. — Она пока что Волнухина, — напомнила Ирена.
— Черт с ней, — сказал я, — все равно она права.
— Предположим, хотя исповедоваться передо мной ты несколько запоздал. Не находишь? — Ирена смотрела на меня влажным раскосым взглядом, в котором таились ирония, растерянность и любопытство. — Что же за тобой водится?
— Все, что хочешь, — сказал я. — Уже в детприемниках я считал себя лучше всех. Вообще необыкновенным… Я как-то увидел над своей тенью золотой обруч вокруг головы. Это случилось летом, рано утром, когда нас гнали на речку купаться. Ни у кого такого обруча не виднелось, только у меня одного! — И что же?
— Лет до четырнадцати я считал это… вроде отметки на мне свыше, что ли. Может, поэтому я чаще других убегал на волю…
— А потом?
— А потом узнал, что такой солнечный нимб светится в росной траве над тенью каждого, но видится он только самому себе.
— Но ты поверил этому не до конца, да? И как теперь проявляет себя твой нимб?
— По-разному, — сказал я. — Ты знаешь, например, что я сделал сегодня, когда покупал тебе розы? Я нечаянно вступил в лужу, вытер ботинок новым носовым платком и отшвырнул платок в сторону. Вот так отшвырнул, — показал я, каким жестом это было сделано. — Но суть не в платке, — сказал я, — а в моем злорадстве оттого, что за него подрались две торговки.