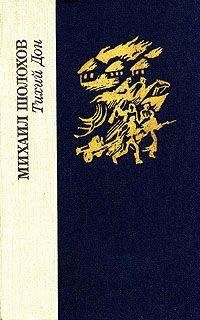– Как же ты думаешь? – спросил Григорий, не снимая с головы дочери черножилую руку.
– И думать нечего. Завтра вот переднюю, а к ночи поеду. Вы, маманя, харчей мне сготовьте, – повернулся он к матери.
– Отступать, значит?
Пантелей Прокофьевич утопил пальцы в кисете, да так и остался с высыпавшимся из щепоти табаком, ожидая ответа.
Петро встал, крестясь на мутные, черного письма, иконы, смотрел сурово и горестно:
– Спаси Христос, наелся!.. Отступать, говоришь? А то как же? Чего же я останусь? Чтобы мне краснопузые кочан срубили? Может, вы думаете оставаться, а я… Не, уж я поеду! Офицеров они не милуют.
– А дом как же? Стал быть, бросим?
Петро только плечами повел на вопрос старика. Но сейчас же заголосила Дарья:
– Вы уедете, а мы должны оставаться? Хороши, нечего сказать! Ваше добро будем оберегать!.. Через него, может, и жизни лишишься! Сгори оно вам ясным огнем! Не останусь я!
Даже Наталья, и та вмешалась в разговор. Глуша звонкий речитатив Дарьи, выкрикнула:
– Ежели хутор миром тронется – и мы не останемся! Пеши уйдем!
– Дуры! Сучки! – исступленно заорал Пантелей Прокофьевич, перекатывая глаза, невольно ища костыль. – Стервы, мать вашу курицу! Цыцте, окаянные!
Мушинское дело, а они равняются… Ну давайте бросим все и пойдем куда глаза глядят! А скотину куда денем? За пазуху покладем? А курень?
– Вы, бабочки, чисто умом тронулись! – обиженно поддержала его Ильинична. – Вы его, добро-то, не наживали, вам легко его кинуть. А мы со стариком день и ночь хрип гнули, да вот так-таки и кинуть? Нет уж! – Она поджала губы, вздохнула. – Идите, а я с места не тронусь. Нехай лучше у порога убьют – все легче, чем под чужим плетнем сдыхать!
Пантелей Прокофьевич подкрутил фитиль у лампы, сопя и вздыхая. На минуту все замолчали. Дуняшка, надвязывавшая паголенок чулка, подняла от спиц голову, шепотом сказала:
– Скотину с собой можно угнать… Не оставаться же из-за скотины.
И опять бешенство запалило старика. Он, как стоялый жеребец, затопал ногами, чуть не упал, споткнувшись о лежавшего у печки козленка.
Остановившись против Дуняшки, оранул:
– Погоним! А старая корова починает – это как? Докель ты ее догонишь?
Ах ты, фитинов в твою дыхало! Бездомовница! Поганка! Гнида!
Наживал-наживал им – и вот что припало услыхать!.. А овец? Ягнят куда денешь?.. Ох, ох, су-у-кина дочь! Молчала бы!
Григорий искоса глянул на Петра и, как когда-то давным-давно, увидел в карих родных глазах его озорную, подтрунивающую и в то же время смиренно-почтительную улыбку, знакомую дрожь пшеничных усов. Петро молниеносно мигнул, весь затрясся от сдерживаемого хохота. Григорий и в себе радостно ощутил эту, несвойственную ему за последние годы податливость на смех, не таясь засмеялся глухо и раскатисто.
– Ну вот!.. Слава богу… Погутарили! – Старик гневно шибнул в него взглядом и сел, отвернувшись к окну, расшитому белым пухом инея.
Только в полночь пришли к общему решению: казакам ехать в отступ, а бабам оставаться караулить дом и хозяйство.
Задолго до света Ильинична затопила печь и к утру уже выпекла хлеб и насушила две сумы сухарей. Старик, позавтракав при огне, с рассветом пошел убирать скотину, готовить к отъезду сани. Он долго стоял в амбаре, сунув руку в набитый пшеницей-гарновкой закром, процеживая сквозь пальцы ядреное зерно. Вышел, будто от покойника: сняв шапку, тихо притворив за собой желтую дверь.
Он еще возился под навесом сарая, меняя на санях кошелку, когда на проулке показался Аникушка, гнавший на водопой корову. Поздоровались.
– Собрался в отступ, Аникей?
– Мне собраться, как голому подпоясаться. Мое – во мне, а чужое будет при мне!
– Нового что слышно?
– Новостей много, Прокофич!
– А что? – встревожился Пантелей Прокофьевич, воткнув в ручницу саней топор.
– Красные что не видно [3] будут. Подходят к Вешкам.
Человек видал с Большого Громка, рассказывал, будто нехорошо идут. Режут людей… У них жиды да китайцы, загреби их в пыль! Мало мы их, чертей косоглазых, побили!
– Режут?!
– Ну, а то нюхают! А тут чигуня [4] проклятая! – Аникушка заматерился и пошел мимо плетня, на ходу договаривая:
– Задонские бабы дымки наварили, поют их, чтоб лиха им не делали, а они напьются, другой хутор займут и шебаршат.
Старик установил кошелку, обошел все сараи, оглядывая каждый стоянок и плетень, поставленный его руками. А потом взял вахли [5], захромал на гумно надергать на дорогу сена. Он вытащил из прикладка железный крюк и, все еще не почувствовав неотвратимости отъезда, стал дергать сено похуже, с бурьяном (доброе он всегда приберегал к весенней пахоте), но одумался и, досадуя на себя, перешел к другому стогу.
До его сознания как-то не дошло, что вот через несколько часов он покинет баз и хутор и поедет куда-то на юг и, может быть, даже не вернется. Он надергал сена и снова, по-старому, потянулся к граблям, чтобы подгресть, но, отдернув руку, как от горячего, вытирая вспотевший под треухом лоб, вслух сказал:
– Да на что ж мне его беречь-то теперь? Все одно ить помечут коням под ноги, потравют зазря али сожгут.
Хряпнув об колено грабельник, он заскрипел зубами, понес вахли с сеном, старчески шаркая ногами, сгорбясь и постарев спиной.
В курень он не вошел, а, приоткрыв дверь, сказал:
– Собирайтесь! Зараз буду запрягать. Как бы не припоздниться.
Уже накинул на лошадей шлейки, уложил в задок чувал с овсом и, дивясь про себя, что сыны так долго не выходят седлать коней, снова пошел к куреню.
В курене творилось чудное: Петро ожесточенно расшматовывал узлы, приготовленные в отступ, выкидывал прямо на пол шаровары, мундиры, праздничные бабьи наряды.
– Это что же такое? – в совершенном изумлении спросил Пантелей Прокофьевич и даже треух снял.
– А вот! – Петро через плечо указал большим пальцем на баб, закончил:
– Ревут. И мы никуда не поедем! Ехать – так всем, а не ехать – так никому!
Их, может, тут сильничать красные будут, а мы поедем добро спасать? А убивать будут – на ихних глазах помрем!
– Раздевайся, батя! – Григорий, улыбаясь, снимал с себя шинель и шашку, а сзади ловила и целовала его руку плачущая Наталья и радостно шлепала в ладоши маково-красная Дуняшка.
Старик надел треух, но сейчас же снова снял его и, подойдя к переднему углу, закрестился широким, машистым крестом. Он положил три поклона, встал с колен, оглядел всех:
– Ну, коли так – остаемся! Укрой и оборони нас, царица небесная! Пойду распрягать.
Прибежал Аникушка. В мелеховском курене поразили его сплошь смеющиеся, веселые лица.
– Чего же вы?
– Не поедут наши казаки! – за всех ответила Дарья.
– Вот так хны! Раздумали?
– Раздумали! – Григорий нехотя оскалил рафинадно-синюю подковку зубов, подмигнул:
– Смерть – ее нечего искать, она и тут налапает.
– Офицерья не едут, а нам и бог велел! – И Аникушка, как на копытах, прогрохотал с крыльца и мимо окон.
В Вешенской на заборах трепыхались фоминские приказы. С часу на час ждали прихода красных войск. А в Каргинской, в тридцати пяти верстах от Вешенской, находился штаб Северного фронта. В ночь на 4 января пришел отряд чеченцев, и спешно, походным порядком, от станицы Усть-Белокалитвенской двигался на фоминский мятежный полк карательный отряд войскового старшины Романа Лазарева.
Чеченцы должны были 5-го идти в наступление на Вешенскую. Разведка их уже побывала на Белогорке. Но наступление сорвалось: перебежчик из фоминских казаков сообщил, что значительные силы Красной Армии ночуют на Гороховке и 5-го должны быть в Вешенской.
Краснов, занятый прибывшими в Новочеркасск союзниками, пытался воздействовать на Фомина. Он вызвал его к прямому проводу Новочеркасск – Вешенская. Телеграф, до этого настойчиво выстукивавший «Вешенская, Фомина», связал короткий разговор.
«Вешенская Фомину точка Урядник Фомин зпт приказываю образумиться и стать с полком на позицию точка Двинут карательный отряд точка Ослушание влечет смертную казнь точка Краснов».
При свете керосиновой лампы Фомин, расстегнув полушубок, смотрел, как из-под пальцев телеграфиста бежит, змеясь, испятнанная коричневыми блестками тонкая бумажная стружка, говорил, дыша в затылок Телеграфисту морозом и самогонкой:
– Ну чего там брешет? Образумиться? Кончил он?.. Пиши ему… Что-о-о? Как это – нельзя? Приказываю, а то зараз зоб с потрохами вырву!
И телеграф застучал:
«Новочеркасск атаману Краснову точка Катись под такую мать точка Фомин».
Положение на Северном фронте стало чревато такими осложнениями, что Краснов решил сам выехать в Каргинскую, чтобы оттуда непосредственно направить «карающую десницу» против Фомина и, главное, поднять дух деморализованных казаков. С этой целью он и пригласил союзников в поездку по фронту.