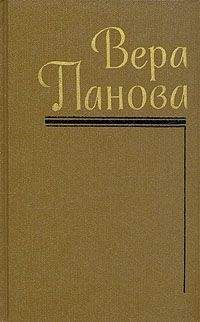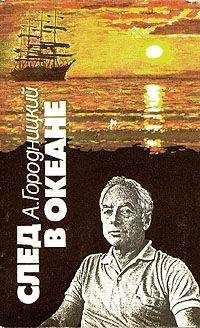Но Спирька не появился. Напрасно Севастьянов, похаживая перед афишей, ждал его и мысленно репетировал объяснение. Спирька тоже был мужчина и не нуждался в никчемных вопросах и ответах.
— Одного я не понимаю.
— Чего ты не понимаешь?
— Где я раньше был? Ты же существовала, ты, ты, ты! Существовала!
— Ты дружил с Зойкой.
— При чем тут Зойка? Дружба с Зойкой — это совсем другое… Слушай, помнишь — ты платок уронила, а я поднял. На площадке, неужели не помнишь? Я сам не додумался, ты мне велела поднять. Я поднял и пошел, и в голове не было, что ты для меня такое… А помнишь, как мы познакомились? Я сидел, оглядываюсь, вижу — ты. А потом ты спросила…
— Это Зойка спросила.
— Верно. Это Зойка спросила. Но все-таки что-то у меня к тебе было с самого начала. Сразу тебя увидел. Как будто нарочно оглянулся, чтобы увидеть. Как будто кто меня толкнул оглянуться. Я тебя люблю. Ты никуда не уйдешь. Ты останешься тут.
— Сумасшедший.
— Останешься, и все.
— Сумасшедший.
— Глупости. Зачем я останусь?
— Любить меня.
— Разве так я тебя не люблю?
— Так не получается. Я ни о чем не могу думать. Ничего не могу делать, когда ты не со мной.
— Наоборот, по-моему: ты ни о чем не можешь думать, когда я с тобой.
— Ты ничего не понимаешь!
— Ты уйдешь в редакцию, а я что буду делать?
— Ждать меня. Будешь заниматься своими делами. Но когда я буду приходить, чтоб ты обязательно была дома. Иначе я не могу.
— Мне и так достанется, что поздно вернулась.
— Я войду с тобой!
— Ну какие глупости, и думать не смей. Такой скандал получится, ты не представляешь. И вообще не вздумай приходить.
— Почему?
— Я не хочу!
— Почему не хочешь?
— Так!
— Нет, ответь: почему?
— Вы все мещане, вот что. Когда любовь красивая, вы не понимаете. Непременно тебе запереть меня от всех. От всего. Вот твое отношение.
— Слушай!..
— Я хочу быть счастливой. А ты требуешь, чтобы я как пришитая сидела целый день. С этими бабками, очень интересно. Сидела, тебя ждала, пока ты придешь, вот твое отношение.
— Ну не плачь. Ну не плачь. Я ничего же не требую, ну не плачь!
Но когда своей сильной мальчишеской рукой он обнимал ее, теплую, льнущую, — такими пустяками оказывались все несогласия! Ее теплота, ее дыхание, ее закрытые глаза — тут была сладость и тайна жизни, дары и очарования жизни; она ему эти очарования указала; приобщила, приковала к ним, заставила вращаться вокруг них на привязи. Каруселить, как было сказано в одной смешной хартии. Я каруселю вокруг тебя по орбите. Дивно прекрасное занятие — каруселить. На короткой приструнке. Вечно чувствовать эту приструнку, где бы ни был. Где бы ты ни была. Вечно ждать, даже находясь вместе. Ждать — вот откроются еще неразведанные миры; они открываются, и опять ждешь, и это бесконечно — как вселенная.
Меры времени спутались: секунда приносила потрясения, от которых взрослела душа, а часы то тянулись, как годы, то уходили, как вода в песок.
Сутки стали величиной огромной — по числу впечатлений, которые в них вмещались.
Зоя приходила вечером. Он мчался домой, чтобы не упустить ни минуты свидания и чтобы оградить ее от ведьм, — они ее так и кусали своими взглядами и усмешками, когда она проходила через их Лысую гору, через кухню.
Забежав в магазин, он покупал колбасы или ветчины и немного пикулей она любила пикули.
Стал франтом: купил новые парусиновые брюки, хотя старые были еще хоть куда, чуть-чуть только сели в стирке.
Заработки его увеличились, он получал фикс, и гонорар стали платить аккуратнее, можно было позволить себе кое-что — например, кожаный портфель, вещь нужнейшую, которая сразу придавала человеку вид ответственного работника.
Ходил с портфелем, прибранный, подстриженный, торжественно-задумчивый, надушенный тройным одеколоном.
Однажды у них отняли вечер. Дробышев отправлялся с губернским начальством на Машстрой и взял Севастьянова. Севастьянов первый раз отроду ехал в автомобиле. Его посадили с шофером. В прежние дни он бы сполна насладился этим удовольствием, теперь одно думал: когда же мы вернемся в город… Степь цвела и дышала. По склонам длинной балки, как ковры, лежали огороды богатой коммуны «Заря». Синий четырехугольник, синий платок, расстеленный среди зелени, — поле медуницы, детская колония посеяла медуницу для своих пчел. За группой деревьев блестел купол с флагом монастырская церковь, с которой сняли крест, — детская колония помещалась в бывшем монастыре… Подводы, запряженные волами, влачились в ленивой пыли. Бабы ехали, свесив ноги. Мужики спали за бабьими спинами, укрыв голову от солнца. В прежние дни Севастьянов вбирал бы в себя эти картины, не пропуская ничего. Теперь надо всем стояла, все затмевая, Зоя. Майская степь, дорога с людьми и волами, синее поле, ковры огородов, флаг на куполе — это было ее подножье. Груды белых облаков в небе тоже были ее подножьем. Выше всего стояла она, все затмевающая, с лучиками на розовых губах, — и вдруг мы не вернемся до вечера, вдруг не успеем! — думал Севастьянов.
Машстрой был только что заложен. Ему предстояло неторопливо расти от сезона к сезону, с приостановкой работы на осень и зиму, неторопливо расти до первой пятилетки, когда все изменится — темпы и масштабы; когда страна зашумит стройками, потоки людей хлынут по стране во все концы и опустеют биржи труда. К тому времени Машстрой, укрупняясь на ходу, двинется вперед семимильными шагами — один из первенцев, гигантов пятилетки. В двадцать четвертом году это были длинные мазаные бараки, штук десять бараков. Грабари, съехавшиеся из разных мест, лопатами копали котлован для первого цеха. Под навесами на печках, сложенных из кирпича, багроволицые кухарки варили еду в артельных котлах. Распластанные на траве, сушились заслуженные рубахи и штаны — выгоревшие, в заплатах.
В маленькой конторе два человека, один средних лет, в косоворотке, лохматый, в доску свой, другой — старик с острой белой бородкой, молчаливый и надменный, — разворачивали перед губернским начальством трубки синек. Смотрело начальство, смотрел Дробышев, потом синьку передавали Севастьянову. Это длилось без конца. Солнце спускалось. Уехать, уйти, убежать не было никакой возможности.
Началось собрание. Губернское начальство сделало доклад. Дробышев сделал доклад о стенной печати. Выбрали редколлегию. Дробышев объявил, что товарищ Севастьянов, сотрудник «Серпа и молота», поможет редколлегии выпустить первый номер стенгазеты. Объявив, сел в автомобиль с начальством и укатил в пылающий закат.
Севастьянов посмотрел им вслед. Он даже записки не успел ей оставить… Закат пылал. Но это же еще не вечер, подумал Севастьянов. И ему вдруг показалось, что если проявить оперативность, если очень, очень постараться, не разбрасываясь, не отвлекаясь…
Надо полагать, члены редколлегии навсегда запомнили урок оперативности, который он им преподал. Они хотели сперва поужинать и его покормить; но он тиранически загнал их в красный уголок и засадил за работу. Неискушенные в газетном деле, они подумали, что это так и надо такая лихорадка, и повиновались ему. Усердие их было велико и чистосердечно; но они ничего не умели. Изнемогая от их медлительности, он бросался помогать каждому и в результате сам написал почти все заметки, передовую и отдел «Кому что снится». И собственноручно переписал газету начисто. И нарисовал две залихватские карикатуры, подражая рисункам Коли Игумнова (до этого никогда не рисовал карикатур). И с отчаянной щедростью раскрасил заголовок красной тушью и золотом. В тот вечер он понял, что значит выражение «работа кипит в руках». Каждое слово ему удавалось и каждый штрих. В жизни потом с ним не было ничего подобного.
Неистовствуя, думал: «Она пришла и ждет. Она ждет». Позже, когда окна стали глухо-черными, ночными: «Она беспокоится. Не знает, что думать. Но она еще ждет». Часов ни у кого не было. Время скакало громадными скачками. «Может быть, она еще ждет». Железная дорога была недалеко, поезда останавливались на разъезде «Машстрой», он рассчитывал уехать, как только кончит свое дело.
Члены редколлегии выбывали из строя по очереди. Один ушел, второй уснул тут же на лавке. Дольше всех держался председатель, чернобровый и черноусый дядька в вышитой рубашке. Он сидел возле Севастьянова и с уважением следил за его действиями. Потом и он заснул, положив голову на измазанный красками стол.
Стенгазета получилась на славу. Севастьянов распрямил спину, — окна были голубые, ясные, электрическая лампочка растаяла как льдинка, ночь прошла, он опоздал на свидание.
Председатель и член редколлегии крепко спали. Севастьянов аккуратно прикрепил свое творение кнопками к стене. Вот. Теперь домой. Вдруг бывают же случаи — вдруг все-таки, несмотря ни на что, вдруг она еще ждет!