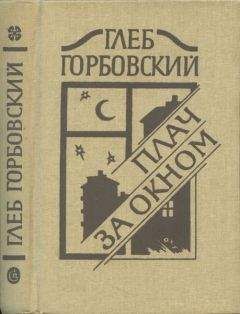Помещение редакции в эти финишные часы дня было малолюдным и малошумным: ни графоманов, ни общественников, ни профессиональных жалобщиков, ни надрывных телефонных звонков — словом, никакой горячки, только работа. И только за столом.
На третьем этаже Потапов отыскал-таки дверь с табличкой, на которой среди трех фамилий пряталась и фамилия жены — Ершова М. П. Потапов не постучал, он просто ударил в дверь рукой и сразу же отпихнул от себя створку, проходя в комнату. Три стола. На одном — огромная пишмашинка. На электрической тяге. На подоконнике — горшочная зелень. За одним из столов — тучный молодой человек, а может, и не молодой вовсе, а просто без морщин, гладколицый.
— Прошу прощения! — засуетился Потапов. — Собственно, мне бы Ершову Марию Петровну.
— Ершова — в курилке, — поведал толстяк, не поднимая глаз от клочка газетной бумаги.
Мария сидела на красном ящике с пожарным песком. Какая-то жалкая сидела, покорная, не домашняя, словно где-нибудь на вокзале перед отправкой в эвакуацию. Так, во всяком случае, померещилось Ивану Кузьмичу при взгляде на жену со своего колокольного роста.
— Иван?! Что-нибудь случилось… Сережа?! — Мария неловко соскочила с ящика.
Потапов сбежал к ней по ступеням, приблизился вплотную — и вдруг… погладил по голове.
— Нет, нет, все хорошо. Ничего не случилось. Просто я на такси. Может, поедем домой вместе?
— Господи, напугал до смерти. Зачем напугал-то? Какое такси? У меня еще на час правки. И вообще, ты откуда?
— Я хотел у тебя спросить, как ты думаешь: Сергей сейчас дома? В это время дня?
— Почему ты спрашиваешь? Говори, не тяни: что с ним?
— Не знаю, что с ним. Не знаю, где он. Представляешь, Мария, оказывается, мы не знаем, где наш сын! И вот мне показалось…
— Что, что тебе показалось?!
— Что мы не любим его.
— Да ты… никак пьян? Чего ты мелешь-то, окаянный?!
Мария бросилась вверх по лестнице и, не оглядываясь на Потапова, заспешила дальше по коридору к своему кабинету. Потапов увидел ее вновь уже за столом, вращавшую диск телефонного аппарата. Толстяк-сослуживец, казалось, еще глубже ушел в бумаги.
— Сережа?! Сыночек? Ты?! Я, мама! Фу-ты, господи! Нет, нет, у меня все хорошо. О’кей, говорю, у меня! Отец? Да здесь он, в редакции… Помирились?! При чем тут? Ворвался на такси! Вот именно… Продолжает выступать. Да, в том же духе. Ну, хорошо, сынок, пока! Сейчас спрошу. («Ты — домой?» — обратилась она к Потапову, тот поспешно кивнул головой.) Сережа, он едет домой. Ты, наверно, голодный, сынок? П-послушай, Потапов, ты в своем уме? Ты чего меня пугаешь?
— Не знаю, не могу объяснить… Показалось.
— Два дня всего лишь человек не работает и уже рехнулся. Ну хорошо, поехали домой. Ты мне не нравишься, Потапов. Хочешь, откровенно скажу?
— Послушай, Маша, мы тут не одни.
— Прежде ты никогда здесь не появлялся. Что происходит, Потапов? Ты никогда еще таким не был. Поехали живо! Костя, — обратилась Мария Петровна к сотруднику, не имевшему морщин и дышавшему громко, будто он жил все время бегом. — У меня просьба: вычитай граночку, а я домой, сам видишь: чепе!
— Поезжайте, — тяжело, а может, и облегченно выдохнул из себя Костя.
В машине Мария не переставала наседать на Потапова.
— Ты что-то скрываешь от меня. Не понравился мне голос мальчика. Сергей чем-то взволнован, растерян.
— Бывает хуже, Мария…
— Как тебя понимать?! Что значит — «хуже»? Хуже, чем у нас, не бывает! Ребенок предоставлен самому себе. Фактически мы его давно потеряли! «Бывает хуже»!
— Он, что… инвалид, алкоголик? Или, может, он тебя бьет? Втайне от меня?
— Ты что мелешь? Почему он должен меня бить? Меня, свою мать?! Уж скорее тебя надо вздрючить за такие слова!
— Все впереди.
— Что ты имеешь в виду?
— Ничего сверхъестественного. Сережа у нас хороший, успокойся. Сережа у нас вежливый, культурный. А ты знаешь, мать, что Сережа в «команде» состоит? В «системе» работает?
— В какой команде? Не замечала… В какой еще системе? Издеваешься опять?!
Потапов дотянулся до Марииного плеча, но колючее, худенькое плечико жены, словно под действием электричества, сбросило руку Ивана Кузьмича, как норовистая лошадка — ездока.
С минуту помолчали. Затем Мария Петровна, поджав коготки, с величайшим напряжением развернула лицо к Потапову и вдруг, то ли шутя, то ли от переполнявшей сердце тревоги, ухватила Ивана Кузьмича за ухо и не дернула, а этак безжалостно потянула за холодную оттопыренную мочку.
— Говори, говори, какая такая команда, какая еще система?! Заговариваешься?
— Во всяком случае — команда не футбольная, а система не торговли. Понимаешь… они там собираются и «балдеют»! Якобы из протеста. Книжки смутного содержания читают. И часами лежат вповалку, парни и девчонки. Представляешь может, наш Сергей уже… буддист? Или — отец троих детей? Подпольных?
— Где лежат? Собираются где?
— Не в институте, конечно. У кого-то на квартире.
— Ну и что? — неожиданно спокойно осведомилась Мария Петровна, задавая вопрос прежде всего себе самой. — Чего тут такого? Да студенты всегда собирались… Во все времена! Собирались и по-своему балдели всякий раз!
— Вот бы ему в армии пару лет побалдеть, — как о чем-то несбыточном помечтал вслух Потапов, изготовившись к отпору на случай нервного приступа, а то и штурма со стороны Марии. Но жена опять-таки почему-то не взбеленилась, вообще промолчала. И Потапов решил, что дело худо, что разобидел Марию до крайности, до «молчаливого» предела. И, похоже, ошибся: Мария Петровна только беспомощно вздохнула. И тут Потапову захотелось чем-нибудь угодить жене, подарить ей цветы, пожалеть ее искренне, на руки взять, как ребенка, но вместо этого пустился в рискованные воспоминания.
— Скажи, Мария… ты до сих пор помнишь его?
— Кого? — облизнула губы, затем приблизила эти губы к Потапову, уставшая, мягкая, малознакомая в этой своей внезапной расслабленности.
— А жениха своего, Николая?
Мария помедлила с ответом. Ничто в ней не вспыхнуло, не взорвалось, вопреки опасениям Ивана Кузьмича, ничего не оскорбилось. Маленький, аккуратно подкрашенный рот ее смешно приоткрылся, как клюв у взалкавшего птенца.
— А ведь, действительно, его… Николаем звали… — прошептала Мария, скорее в недоумении, нежели в восторге. — Нет, не помню. Даже лица не помню. Двадцать лет прошло. Машина какого цвета — помню: синенький такой горбатенький «запорожец», на котором он разбился. А лицо — рассосалось, растаяло.
Потапов не стал отпирать двери ключом, он позвонил: ему хотелось увидеть лицо Сергея. В сознании пряталось ощущение, будто он, Потапов, слишком долго не видел этого лица. А может, так оно и было?
Створка отошла, и Потапов, глядя в тощее, резкое (изваяние с острова Пасхи!) родное лицо, отпрянул от него: сын перед ним стоял хоть и прежний, но что-то в его облике несомненно изменилось.
За спиной Потапова ахнула Мария:
— Сережа… что с тобой?!
— Ничего особенного. Ах, ты про это? Ну, подстригся. Надоело причесываться.
— Наголо?! Ты с-с ума сошел! Иван, ты посмотри, что он с собой натворил? У него же не голова без волос, а… а огурец какой-то!
Стоя в прихожей, не отпуская от себя полураздетого, собравшегося принять ванну Сергея, Потапов с Марией еще долго разглядывали сына, о чем-то с ним говорили впопыхах, о каких-то пустяках ничтожных, а Мария Петровна — та и вовсе «руки распустила»: оглаживала стриженую голову Сергея, трогала оттопыренные уши «мальчика», едва до них дотягиваясь привстав на цыпочки.
Мария с небывалым рвением принялась готовить ужин, стучала по смерзшемуся мясу железным молотком, жарила отбивные. Сам Потапов с нетерпением поджидал сына в кабинете, прислушиваясь к шуму воды в ванной комнате, и с невероятной тяжестью в сердце, с какой-то дикой, неприрученной печалью в сознании вспоминал… другого сына от другого отца, оскаленный рот на обгоревшем, блестящем, недвижном, оледенелом лице.
— Сережа, сынок, погоди, чего скажу… — потянулся Иван Кузьмич от стола к дверям, в которых стоял посвежевший, умытый сын. Изо всех сил пряча улыбку в широких, расползавшихся губах, Сергей как ни в чем не бывало причесывал бесполезной теперь расческой безволосую голову.
— Ты чего, отец? Или знаешь уже?
«Отцом назвал! — мелькнуло у Потапова. — До тринадцати папой звал. А с тринадцати никак. Обходился местоимениями. И вот — окрестил отцом! А может, он и прежде так-то обращался, только… шепотом? Чтобы я прислушался? Да где там: занят был „ужасно“! А чем занят-то? Липой. От которой теперь в себя не прийти, не отплеваться, ибо в кровь вошла. Смотрите-ка, а ведь в нем, в сыне-то моем, от меня, от потаповской нескладени мосластой, пожалуй, даже больше, чем от ершовской, Марииной изящности и розоватости. Хотя — вот она, розоватость, налицо. Горячая кровь. Ишь как пылает после ванной. Господи, неужели такой ангелок чего-то там такое… покуривает, „кейфует“ каким-то подпольным образом? Неужели в позе лотоса сидит часами, созерцает себя изнутри, или как там у них происходит все это радение?»