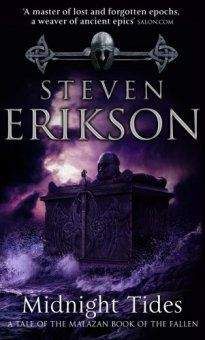— Более вкусного рыбца, Дина Платоновна, — приговаривал Шевляков, — чем на нашем катере, да на газетной скатерти, вам отведать не придется, уверяю вас.
Лагутина процедила невнятное «угу» и потянулась за другим куском пропитанного жиром рыбца.
А потом, разомлев от сытной еды, от воздуха и солнца, убаюканные рокотом мотора, «погорельцы» сидели на корме плечом к плечу и, не отрываясь, смотрели на однообразную, но всегда захватывающую картину умопомрачительной морской дали. Нервно зыбился за струйкой марева горизонт, и они тщетно пытались определить ту линию, где небо окуналось в море.
— Мог быть чудный бездумный день, день полного выключения от всего того, что именуется буднями, если бы не было о чем думать, — с какой-то горестной интонацией проговорил Рудаев.
— Глубокая философия на мелком месте, — по привычке куснула Лагутина, хотя обижать сегодня Рудаева ей никак не хотелось.
Он не обиделся, но замолк, и ей стало досадно. У него приятный тембр голоса, в меру низкий, в меру густой, успокаивающий, как и рокот мотора. Пусть бы говорил и говорил…
— Дина Платоновна, расскажите о себе, — неожиданно попросил Рудаев.
— Вы что, коллекционируете биографии выдающихся личностей?
— Нет, кроме шуток. Ведь я о вас ничего не знаю.
— А зачем? Вы уезжаете. К тому же лучше, когда люди не столько знают друг о друге, сколько чувствуют друг друга.
— И все-таки мне хочется знать о вас больше.
— А что вас интересует? Возраст? Тридцать три. Вы, кажется, моложе. Образование? Как у вас, ну… плюс литературное. Была ли замужем? И сейчас формально да. Почему не живу с мужем? Ох, это так трудно… чтобы вы поняли. Пьет. Неисправимо. Неизлечимо. Пять лет боролась. Изо дня в день. Все перепробовала. Убеждения, угрозы, ласки, отстранение. Изнемогла. Хорошо ли поступила, что ушла, плохо ли — не знаю. Одни говорят — плохо, другие одобряют. А у меня уже просто не было сил. Он не изменял, нет, он любит меня. Не буянил. Но избыток любви всегда пьяного человека… Ну что еще? Что?
Она разволновалась. Говорила с раздражением, и Рудаеву трудно было понять, чем вызвано это раздражение, — его бесцеремонной настойчивостью или просто горькие воспоминания делают человека злым и отчужденным.
День в Ейске провели беззаботно. Бродили по тихим прямым улицам, малозеленым и достаточно пыльным, тщетно высматривали на базаре рыбца. А потом отправились на пляж, купались, валялись на песке. Пользуясь тем, что их никто не знает, грызли семечки, мелкие, черные, как угольки, но вкусные-превкусные. В полупустом ресторанчике — курортный сезон уже кончился — пообедали.
— У меня сейчас такое ощущение, будто мы студенты на каникулах, — выходя из ресторана, сказала Лагутина.
— А у меня такое, будто я давно окончил институт, работал на заводе и ни за что ни про что остался не у дел, — попробовал пошутить Рудаев, но шутка не вызвала у Лагутиной даже улыбки.
Не зная, куда девать время, зашли в кинотеатр и в совершенно пустом зале смотрели «Девушку с гитарой», фильм, который давно видели и давно забыли.
Около пяти вечера вернулись в порт. Моря нельзя было узнать. Дул ветер, сильный, упрямый, направленный. Пена прибоя отливала свинцом и казалась тяжелой, угрожающей. Недобро, мрачно наливалось злом небо.
— Будет шторм, — сказал Рудаев.
— На море или в цехе? — засмеялась Лагутина, вспомнив тревожный вечер, проведенный у моря, затянувшийся разговор.
— Вы напрасно так, Дина Платоновна. — Рудаев был серьезно озабочен. — Суденышко хлипкое, а волны на этом мелководье страшны. Знаете что? Вам лучше поездом. Правда, езды тут сутки.
— А если переждать непогоду?
— Нельзя. Людям на работу. А я не могу оставить ребят в беде.
— А почему вы решили, что я могу. Как все, так и я. Лагутина не первый раз в море. Несколько раз она плавала по Черному морю, совершила путешествие вокруг Европы — из Одессы до Ленинграда, испытала качку в Бискайском заливе. Но такой болтанки даже и представить себе не могла. Катеришка игрушечный, почти речной, а буря всерьез и волны настоящие, морские. К тому же пришлось идти не по ветру, не против ветра, а поперек. А что может быть хуже бортовой качки?
Первым сдал Шевляков. Он оказался подверженным морской, болезни и, чтобы не портить настроение спутникам, вскарабкался по лестнице на палубу, затем в рулевую будку и там прикипел.
В начале пути катер еще подчинялся каким-то законам колебаний. Победно разгуливали волны, шумно сшибались, вырастали в огромные валы и обрушивались, чтобы начать новую планомерную атаку. Потом началось сплошное беззаконие. Что ни волна — то загадка: как крутанет, куда повернет, с какой стороны ударит. Едва катер, залегший на правый борт, начинал разворачиваться в левую сторону, как вдруг от толчка он снова валился направо, еще сильнее, еще неудержимее. А то, так и не выпрямившись, задирал нос и становился почти вертикально. Лагутина как опытный мореплаватель улеглась на койку головой к корме, и почему-то ее разбирал смех. Рудаев заметно мрачнел. Шторм крепчал, и он ясно представлял себе, что будет дальше.
Небо приобрело окраску моря и быстро потемнело, сумрак уже залег в углах каюты и все ближе подбирался к иллюминаторам, в которые попеременно то билась свинцово-сизая вода, то заглядывало грозное нависшее облако. Разговаривать было трудно. Ухали о корпус остервенелые волны, где-то жалобно дребезжали стекла, тягуче скрежетали шпангоуты, и раздавались глухие шлепки, когда катер, на мгновение зависая в воздухе, плюхался на воду. Казалось, он вот-вот развалится на части.
Рудаев нащупал выключатель. Свет был слабый, мутный, дрожащий, но иллюминаторы тотчас затянула непроглядная прочная тьма. Он выключил свет. В каюте снова стало темно, зато мрак за бортом поредел. Осторожно, чтобы не свалиться, добрался до ящика с инвентарем. Достал пробковые пояса, один бросил на верхнюю койку, другой дал Лагутиной. Сел рядом, участливо и тревожно заглянул ей в глаза. Она ответила спокойным признательным взглядом.
«Наверняка не понимает еще, какой опасности подвергается, — сказал он сам себе, но ничего объяснять не стал. — Развязка может наступить внезапно. Самое тяжелое не смерть, а страх смерти».
— Мы в серьезную переделку влипли, да? — спросила Лагутина. Оказывается, она отдавала себе отчет в опасности положения.
— Лишь бы не отказал мотор… Вот тогда… Беспомощный поплавок…
— Хорошо бы свет, в темноте жутко…
Рудаев щелкнул выключателем раз, другой — лампочка не загорелась.
Катер стоически боролся за свою жизнь. Как ни валили его набок волны, как ни зарывали его, как ни швыряли из стороны в сторону, он выходил из всех положений победителем. Ровный рокот мотора сменялся истерическим ревом, когда винт катера вырывался из воды и, не встречая никакого сопротивления, бешено вертелся в воздухе. Потом мотор вздрагивал и снова принимался урчать ровно.
— С какой перегрузкой работает… — встревоженно отметила Лагутина. — То разнос, то торможение. Так его надолго не хватит…
Стало темно, настолько темно, что глаз уже не мог обнаружить иллюминаторов.
Рудаев чиркнул спичкой и в неровном свете увидел глаза Лагутиной. Страх, один только непреодолимый страх выражали они. Поняв, что выдала себя, Дина Платоновна задула огонь. Рудаев подсел к ней, взял ее руки в свои, стал согревать дыханием похолодевшие пальцы.
Мотор внезапно взревел и стих. В ту же минуту катер развернуло на месте раз, потом еще и еще, и он, прыгая е волны на волну, завертелся, как волчок.
«Вот, кажется, и все», — решил Рудаев, и нестройные, суматошные мысли закаруселили у него в голове.
Резкий удар, словно катер налетел на риф, и Рудаев грохнулся на пол. Встать на ноги ему не удается, и он, потеряв всякую ориентировку, ползает по полу, ощупью угадывая предметы.
— Борис Серафимович! Боря! — кричит Лагутина. Он поворачивается и ползет на звук ее голоса. Теперь уже не усидишь. Он ложится рядом с Лагутиной. Лицо к лицу.
— Ударились? — заботливо спрашивает она.
— Где-то что-то болит…
Им тесно на койке, но это создает ощущение уверенности — свалиться на пол теперь не просто. Им тесно, но так теплее и куда-то уходит страх.
А катер бросает вверх, вниз, в стороны, ставит на корму, на нос и крутит, крутит…
— Вы меня простите, Дина Платоновна, — виновато говорит Рудаев. — Взял грех на душу.
— Уцелеем, — прощу, — как-то безразлично отвечает Лагутина и вдруг панически: — Борис Серафимович, только правду: шансов мало?
— Немного… Я-то сам ничего, но ты…
Она растроганно прижалась щекой к его щеке. Почему-то страх исчез бесследно и только разъедала душу жалость, что все так нелепо кончается. Даже слезы выступили. Он почувствовал их, вытер щекой, нашел губами ее губы…