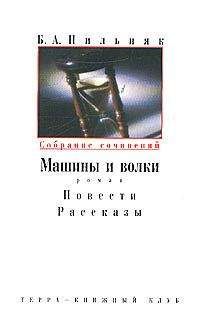В этот час негорбящийся человек в доме номер первый все еще сидел в своем кабинете. Окна были глухо закрыты занавесами, вновь горел камин. Дом замер в тишине, точно эту тишину копили столетия. Человек сидел на деревянном своем стуле. Теперь перед ним были открыты толстые книги на немецком и английском языках, — он писал, — по-русски, чернилами, прямым почерком, в немецком Lainen-Роst. Те книги, что были раскрыты перед ним, были книгами о государстве, праве и власти.
В кабинете падал с потолка свет, и теперь видно было лицо человека: оно было очень обыденно, быть может, чуть-чуть черство, но, во всяком случае, очень сосредоточенно и никак не утомленно. Человек над книгами и блокнотом сидел долго. Потом он звонил, и к нему пришла стенографистка. Он стал диктовать. Вехами его речи были СССР, Америка, Англия, земной шар и СССР, английские стерлинги и русские пуды пшеницы, американская тяжелая индустрия и китайские рабочие руки. Человек говорил громко и твердо, и каждая его фраза была формулой.
Над городом шла луна.
В этот час командарм сидел у Попова в гостиничном номере большой гостиницы, населенной исключительно коммунистами, поселившимися здесь в восемнадцатом году, когда в дыму восстаний необходимо было держаться друг возле друга. Номер был велик, богато обставлен, но, как все номера всех гостиниц, указывал на временность, на дорогу, сущностью своей противной уюту. Их сидело трое — Гаврилов, Попов и двухлетняя дочка Попова Наташка. Попов валялся на диване, Гаврилов сидел у стола, и на коленях у него гомозилась Наташка. Гаврилов зажигал спички; удивленно, как могут удивляться таинственному в мире только дети, Наташка смотрела на огонь, складывала трубкой губы и дула на огонь, не сразу хватало дыхания потушить спичку, потом спичка тухла, и тогда столько изумления, восторга и страха перед таинственным было в голубых глазах Наташи, что нельзя было не зажечь новой спички, нельзя не склонить голову перед таинственным, что самою собою несла Наташа. Потом Гаврилов укладывал Наташку спать, сел около ее постельки, сказал: «Ты закрой глаза, а я буду тебе песни петь», — и запел, не умея петь, не зная никакой песни, придумывал песню здесь же:
Пришел козёл, сказал:
«А ты спи, спи, спи, спи, спи»,
улыбнулся, хитро посмотрел на Наташу и на Попова и пропел то, что впервые пришло ему на ум из созвучия слов «спи, спи, спи, спи», запел:
Пришел козёл, сказал:
«А ты спи, спи, спи, спи, спи…
Но не пис, пис, пис, пиc, пис…»
Наташа открыла глаза, улыбнулась, а Гаврилов так и пел эти две последние строчки неумелым голосом (плохо, в сущности, пел), пока не заснула Наташа.
Тогда Гаврилов и Попов вдвоем пили чай. Попов с красным чайником, на котором белой эмалью было написано: «товарищу Попову от рабочих и работниц завода Лысьва в день Пятой Годовщины Октября». С этим чайником ходил на кухню к кубу за кипятком. На газете он расставил стаканы, тарелки с маслом и сыром, в кульке был сахар, в другом кульке был хлеб. Попов спрашивал: — «Не сварить ли тебе, Николка, манной каши?»
Сидели друг против друга, говорили негромко, медленно, никуда не спешили, чаю выпили много, Гаврилов пил с блюдечка, расстегнул ворот гимнастерки. После мелочей о том о сём, за вторым стаканом чая, не допив половины, Попов отставил стакан, помолчав, сказал:
— Николка, а моя Зина от меня ушла, ребенка бросила мне на руки, ушла к какому-то инженеру, которого раньше любила, шут его знает. Судить ее мне неохота, не хочу мараться плохими словами, а все-таки, надо сказать, убежала по-сучьи, не сказав, скрыв. Не хочется так думать, что никогда она меня и не любила, а содержанилась из-за моего положения, но, все-таки, так получается, что убежала от меня из-за шелковых чулков, из-за духов, там, и пудры. И самому мне стыдно, подобрал человека в яме, на фронте, заботился, любил и, как дурак, грел человека, а он оказался барынькой — проглядел человека, который со мной пять лет прожил.
И Попов подробно рассказывал о всех мелочах расхождения, которые всегда так мучительны именно своей мелочностью, той мелочностью, той мелочью, за которой не видно большого. Тогда стали говорить о детях, и Гаврилов рассказывал о своей жене, которая уже постарела и все же единственная на всю жизнь для Гаврилова. Долго говорили о Наташе, с которой, — ну, вот, — как с ней поступить Попову, когда он и на горшочек как следует посадить не может, и убаюкать не умеет. Книги показывал Попов — Водовозову, Монтессори, Пинкевича, разводил руками, и — чай все время пили остывшим.
Луна спешила над городом. В тот час, когда городские улицы пустели, чтобы отдохнуть в ночи, в деревнях запели первые петухи, когда люди, прожевывая ужин, дневные впечатления и умные сентенции об этом дне, лезли — мужья, жены, любовники, любовницы в постели, — Гаврилов уходил от Попова.
— Ты мне дай почитать чего-нибудь, — только, знаешь, попроще, про хороших людей, про хорошую любовь, о простых отношениях, о простой жизни, о солнце, о людях и простой человеческой радости.
Такой книги не нашлось у Попова.
— Вот тебе и революционная литература, — сказал, пошутив, Гаврилов. — Ну, ладно, я еще раз почитаю Толстого. Уж очень хорошо у него про старые перчатки на балу. — И Гаврилов потемнел, замолчал, сказал тихо: — Я тебе, Алешка, не говорил, чтобы на пустые разговоры время не тратить. Был я сегодня по начальству и в больнице, у профессоров. Профессорье умственность разводило. Не хочу резаться, естество против. Завтра мне ложиться под нож. Ты тогда приходи в больницу, не забывай старину. Детишкам моим и жене ничего не пиши. Прощай! И Гаврилов вышел из комнаты, не пожав руки Попова.
У гостиницы стояла крытая машина. Гаврилов сел, молвил: — «Домой, в вагон», — и машина пошла в переулки. На запасных путях луна скользила по рельсам; пробежала собака, визгнула и скрылась в простор черной рельсовой тишины. У ступенек вагона стоял часовой, замер, пока проходил командарм. Вырос в коридоре ординарец, высунул голову проводник, — вспыхнуло в вагоне электричество, — и такая безмолвная, глубокая, провинциальная тишина стала в вагоне. Командарм прошел в купе-спальню, снял сапоги, надел ночные туфли, расстегнул ворот гимнастерки, — позвонил — «чаю». Прошел в салон, сел к настольной лампе, проводник принес чаю, но командарм не прикоснулся к нему; командарм долго сидел над книгой «Детство и отрочество», читал, думал над книгой. Тогда командарм ходил в спальню, принес большой блокнот, позвонил, сказал вестовому: — «Чернил, пожалуйста» — и медленно стал писать, думая над каждой фразой. Написал одно письмо, перечитал, обдумал, заклеил в конверт. Второе письмо написал, обдумал, заклеил. И третье письмо написал, очень короткое, писал, торопясь, — запечатал не перечитывая. В вагоне немотствующая тишина. Замер у подножки часовой. Замерли в коридоре ординарец и проводник. Замерло, казалось, время. Письма долго лежали перед командармом, в белых пакетах, с надписанными адресами. Тогда командарм взял большой пакет, все три письма запечатал в него и на пакете написал: «Вскрыть после моей смерти». И буднично поднялся, чтобы пойти спать: снял в спальне гимнастерку, ходил мыться перед сном, раздевался, лег, потушил свет. И часа три-четыре вагон пребывал во мраке и безмолвии. Это был час третьих петухов. Если бы проводник взглянул тогда в купе командарма, он увидел бы там — неожиданно для себя — в том месте, где должна была быть голова командарма, красный огонек папиросы, — неожиданно для себя потому, что обыкновенно командарм не курил.
И тогда резко зазвонил звонок от командарма к проводнику.
Командарм говорил голосом полководца:
— Одеться. Теплую шинель. Позвонить в гараж, — гоночную, открытую, двухместную, — править буду сам. Соединить с Домом Советов, с номером Попова.
В телефон к Попову командарм сказал:
— Алексей. Я сейчас выезжаю за тобой. Сойди к подъезду. Говорит Гаврилов. Не замедли.
Беговая, двухместная, стосильная рванула с места сразу на второй скорости, веером, разворачиваясь, кинула снопы белого света, — шофер отбежал в сторону, у рулей сидел командарм, — рявкнул гудок, машина пошла раскраивать осколки луж, переулки, вывески лавок и учреждений, рвущая ветер и пространство. Попов стоял недоумевающий, заспанный. Машина, должно быть, здорово порвала резину шин, сломав скорость перед подъездом Дома Советов. Попов сел молча. И машина стала отбрасывать назад улицы, переулки, плеск луж, светы фонарей. Воздух все твердел и твердел, прорвался воем ветра, засвистел в машине, стал ледяным и колючим, — фонари на перекрестках размахивались своими огнями, налетали и стремглав бросались назад, — один, другой просвистели милиционеры. Но машина уже вырвалась из груд домов и улиц, выходила за заставу, сначала в просторы пустырей и редких газовых рожков на трамвайных линиях, — потом в черный мрак полей. Все скорости были открыты. Воздух и ветер сошли с ума, резали, мешали дышать. Шоссе под машиной давно уже слилось в белый ровный плат, где не видно ни впадин, ни каменных куч по краям шоссе, — лишь тогда, когда уж очень велики были впадины на шоссе, взлетала машина над землей и несколько саженей летела по воздуху, теряя шум летящих из-под шин камней. Раз, и два, и три огни машины упирались в стены деревенских изб, избы овцами бросались в стороны, и деревня оставалась позади в собачьем визге. В лощине между двух холмов запутались огни машины в серых космах осеннего тумана, и узналось, что и туман может лететь, визжать, стремиться, выть метелью и пургой колоть лицо. Гаврилов сидел, склонившись над рулем, вниманье, точность и расчет, — и все вперед, вперед, сильней, сильней, быстрее — гнал Гаврилов машину. Попов давно уже сидел на четвереньках на дне машины, судорожно держась руками за дно машины и не выглядывая оттуда. Так, в срок меньше часа, машина прорвала расстояние верст в сто. Там, на опушке какого-то старого леса, машина потеряла свои скорости, обессилела, замолкла, отпустила на покой ветры, холод, — мчащую, косую изморось поставила на ноги, в отвес, — машина стала. Попов сел на место. Гаврилов сказал: