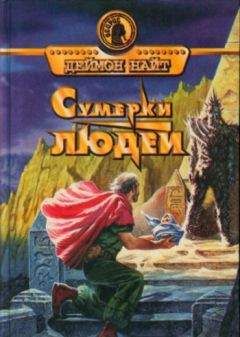И тогда зрители поняли: всерьез старается!
Поднялся хохот.
— Давай, пузо, жми! — кричали Альке. — Не жалей лаптей — дярёвня близко!
Люди постарше сочувствовали ему:
— Парень, да сойди ты! Брось! Зачем уродуешься?!
Какой-то поддавший дедок, с медалями, навешанными прямо на ситцевую рубашку, даже погнался за ним, бренча наградами:
— Сынок! Стой!.. Ты что это, а?.. Ну их к такой матери! Остановись!
Алька не остановился. Он добежал, пересек финишную черту и свернул на траву, невидяще толкая людей.
Мы с товарищем подхватили его с двух сторон: «Походи, Алька, походи! Не садись!»
Не смогли удержать. Он буквально вытек из наших рук сырым, тяжелым тестом.
Его начало выворачивать — мучительно, тяжко, зеленым.
…Я искал потом тренера. Не знаю, что бы я с ним сделал. И тогда не знал. Только горела душа: найти, гада! Вот же гад! Ну и гад!..
Не нашел. Затерялся Суворов где-то среди спортивного и прочего начальства.
А на другой день не с кем оказалось выяснять отношения: сгорел наш тренер в одночасье.
Заявилась какая-то комиссия (мы подумали сначала: разбирать случай с Бабаяном), походила, посвистала… обнаружила в спортзале — на стене, над входом — портрет врага народа и пособника иностранного капитала Берии, уже неделю как разоблаченного.
Как он попал туда? Кто его водрузил, когда, зачем? И главное — почему его-то? Ну, хоть бы общество наше было динамовское…
Бедный тренер Суворов, ничего не читавший, кроме спортивной хроники, знать не знал, кто этот с усиками. Висит себе и висит. Да он его, пожалуй, и не видел. Ведь для этого же надо было, войдя в зал, обернуться и задрать голову. А когда было Суворову голову задирать?
Тренер страшно перепугался. Сам сбегал за длинной пожарной лестницей, сваренной из тонких металлических труб (спортзал у нас теперь был высокий и просторный — в новом Дворце шахтостроителей); сам, как матрос по вантам, кинулся по ней вверх — исправлять политическую ошибку.
Лестница завибрировала от частых ударов его ног, сломилась посредине, быстро поползла вниз. Суворов только ручками успел всплеснуть возле усов врага народа. Хотел захватить его, но сверзился один. Вышиб два пальца на левой руке и сломал ключицу… На роду ему, что ли, такое было написано: попадать из нелепости в нелепость?
Травмы не спасли тренера Суворова. Он был освобожден в тот же день. И понятно: не мог столь близорукий, аполитичный человек воспитывать подрастающую спортивную смену. Не имел права.
Суворов ушел на стройку — машинистом башенного крана. И это он, оказывается, умел.
Спортивная же работа стала хиреть. Разваливались секции. Разбегались по другим командам способные ребята.
Я не был свидетелем этого печального заката, поскольку уехал на учебу в другой город.
Разбудили меня громкие голоса.
Было очень рано: мать еще не затопила печку, только — судя по характерному звуку — колола лучины на растопку. И громко с кем-то разговаривала.
— Да ты, может, не дослышал чего?! С глуху-то… прости меня господи. — Это она добавила потише, с досадой. — Может, говорю, про другого кого передавали — не про него?!
— Как так не про него? Л про кого же? — Я узнал голос деда Стукалина и понял, отчего мать разговаривает чуть не на крике: Стукалин глухой был, как валенок. — Скажешь тоже — не про него. Что уж я — совсем из ума выжил. Да я и не один слухал, с Семеновной. Семеновиа-то зашлась сразу, задвохнулась. Кой-как отходились. Лежит вон пластом.
— Чего она так-то? — насмешливо спросила мать (она не долюбливала заполошную Семеновну). — Еще, может, враки — а уж она пластом.
— Но! Враки! — возразил дед. — Радива врать не станет. На два раза повторили… Ах, мать твою совсем! Это что жа теперь? Как жа? Кого теперь — наместо его?
— Тебя посадят! — сказала мать.
— Куды посодют? — испугался дед. — Чего буровишь? За что меня садить?
— Ну не посадят — поставят. Или не совладаешь?
— Тьфу! — осерчал дед. — Мелешь чего зря! Гляди — домелешься.
— А я не боюсь! — храбро сказала мать, со звоном отколов лучину. — По мне что ни поп, то батька. Хуже не станет, а лучше не надо.
— Врачи это его ухайдакали, — помолчав, сказал дед Стукалнн. — Они, сукины дети, больше некому. Про врачей-то, про отравителей, писали — помнишь?
— Да их же, вроде, пересажали.
— Ну-у, какой-нибудь остался, — предположил дед. — Затаился, вражина. Так-то с чего бы? По годам ему жить бы еще да жить. Он с какого был?
— Я его не крестила! — сказала мать, громыхнув печной дверцей. Она что-то все больше раздражалась.
Дед вдруг охнул:
— А ну, как война опять!
— Типун тебе на язык, черту старому! — заругалась мать.
Еще о чем-то они говорили — я больше не вслушивался.
После первых же фраз я сообразил, о чем речь, — ОН УМЕР!
Ну да, вчера было сообщение в газете: «Внезапное кровоизлияние в мозг… паралич… потеря сознания и речи». А сегодня, значит, по радио передали. О нем — о ком же еще… Дед слышал. И Семеновна… Умер. Это про него они говорят… Умер… умер. Я все повторял это слово — тупо, машинально, — и продолжал лежать, неприятно пораженный тем, что ничего не происходит.
Сколько раз с каким-то жутким восторгом я рисовал себе ЭТО. Ударит страшный миг — и… небо, что ли, расколется, полетит оттуда грозный и скорбный звук, вздрогнет воздух, колыхнутся трапы и деревья, и тысячи тысяч искаженных ужасом лиц упадут в распахнутые ладони.
И вот миг ударил. И — ни-че-го. Стоит, как стояла, наша избушка, маленькое оконце плотно занавешено туманом — словно прилепил кто-то снаружи застиранную простыню, мать — слышно — вздувает огонь в печи, дед Стукалин, шаркая валенками уже на пороге, заканчивает какую-то нелепую фразу: «… водка-то, конечно, не прокиснет, куды ей деваться, а вот стюдень».
Надо было встать, выйти к матери, в кухню. Я боялся. Боялся показать ей свое спокойное лицо. И лежал, законно пользуясь уловкой: вчера, на тренировке, я сильно потянул ногу, с вечера еще сказал матери, что в школу не пойду, — вот она меня и не будила… Но что же это со мной?! Почему у меня не лопается сердце, почему я не корчусь на кровати, не рыдаю, не рву зубами подушку?
Встать все-таки пришлось.
Мать подняла голову — она чистила над ведром картошку:
— Разбудили тебя? Я кивнул.
— Слышал, значит, все. — Теперь, когда дед Стукалин ушел, храбриться ей было не перед кем, в глазах ее была растерянность. — Что же будет, сынка?.. Ох, грехи наши тяжкие. — И снова, без перехода, ожесточилась: резко кинула в ведро недочищенную картофелину: — Только, вроде, жить начали! Хочешь на гору, а черт за ногу!
Она длинно вздохнула, вынула картофелину обратно:
— Стукалины-то свадьбу сегодня играть собирались. Федора опять дед женит. На Зинке Кусковой. А какая же теперь свадьба… Дед-то приходил, спрашивал — нельзя, мол, к нам в погреб кой-чего перетаскать. Там котлет одних два ведра навертели, холодца таз. Пропадет все.
Я проковылял в сенцы, разыскал там среди лопат и грабель старый костыль. В прошлом году донимали меня чирьи, избили все ноги так, что я всерьез охрамел, и Федор Стукалин подарил мне, давно ставшую ему не нужной, с фронта еще привезенную «подпорку».
— Пойдешь все же? — увидев меня с костылем, спросила мать. — И не емши… Давай хоть оладий тебе заверну — в портфель. Только как ты его понесешь-то, хромой?
— Мать, какой сегодня портфель… Какие уроки.
— Ну да, ну да, — закивала она. Я сбежал из дома.
Стыд крохотным червячком засел под сердцем — точил, сосал. Стыдно было за фразу эту, сказанную матери с неискренней горечью: «какой портфель… какие уроки». Ведь не было горечи в моей душе. Ни горечи, ни отчаяния. Мне даже тревожно сделалось от этой своей бесчувственности — словно от внезапного ощущения приближающейся болезни. Или — уже наступившей? Может, я и правда заболел? Может, это болезнь такая?
Но ведь я был, был здоров. Еще вчера, когда читал сообщение в газете. И позавчера. И раньше, давно.
А как я был здоров в тот памятный день, в день пятилетия Победы. Тяжко памятный для меня…
Откуда-то, не помню, я прибежал вечером домой и застал остатки праздничной компании. За столом сидели только отец да сосед наш — дядя Петя Сорокин.
У них еще оставалось в бутылочке, на дне. Разгоряченный вином отец вспоминал какой-то фронтовой случай, наваливаясь грудью на стол, кричал в лицо задремывавшему дяде Пете:
— Сидим мы в грязи, в болоте — по ноздри! А он режет, сучка! Так режет — головы не высунуть! А мы сидим вторые сутки — мокрые, голодные, кишки свело! Ну, и не вытерпели. Как повыскакивали все — без команды! Как рванули: в бога душу мать!
Я ослеп — словно в темную яму провалился. Что он говорит! Ведь они должны были кричать ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА! Ведь все же так кричали!