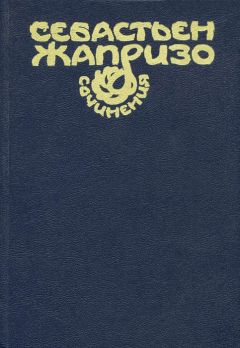Мне очень хотелось увидеть Шолома, ведь он мне был особенно дорог. Хотелось еще раз посетить дом, где она жила и каждая вещь напоминала о ней. Хоть немного побыть в эти трудные минуты с ее мужем, которого я уважал и любил. Но понимал — этого делать нельзя. А вдруг это укрепило бы в нем напрасные подозрения, которые раньше, вероятно, временами закрадывались в его душу.
С кладбища я сразу же поехал в аэропорт и успел взять билет на Москву. Уже в самолете подумал, что ни Геннадий Львович, ни я за эти несколько часов, которые провели вместе, ни разу не произнесли дорогого нам имени «Ехевед». Как это получилось, я понять не мог. И тогда, находясь выше облаков, поднявшись на восемь километров над землей, которая вращалась вместе с могилой Ехевед, я со всей глубиной понял, что на протяжении многих, многих лет знакомства с Геннадием Львовичем я буквально ни за что его огорчал, доставлял ему много мук и страданий, которые он умело скрывал и от нее и от меня. Этого я себе никогда не прощу. Я преступник по отношению к нему и к ней… Преступник, как будто и невиновный. Но все же преступник…
Из Москвы в Читу я решил ехать поездом: чтобы прийти немного в себя, в течение шести суток пути обо всем поразмыслить. Буквально за несколько минут до отхода поезда я достал билет в международный вагон, к вам в купе.
Мой попутчик, Соломон Елизарович, говорил торопливо, без передышки, словно боясь, что не успеет высказать все, что наболело и что его мучило.
Поезд приближался к Чите. В ночной мгле бушевал сибирский ветер. Вьюга свистела, выла и зло хлестала снегом в стекла. От окна тянуло холодом. Мой попутчик, держа в руке пальто, стоя в слабо освещенном купе, торопливо продолжал:
— Пока она была жива, я не был одинок. От одной мысли, что она есть, пусть даже где-то далеко, но есть, уже было отрадно и спокойно на душе. Сейчас я остался совсем один. У меня нет никого в целом свете. Никто мне ее не заменит. Моим единственным другом остается виолончель. Даже мужа Ехевед, Геннадия Львовича, я никогда не увижу: И Суламифь, и Шолома. Никогда не войду в их квартиру на улице Бродского. Пусть они забудут обо мне. И главное, пусть забудет он, Геннадий Львович. Я никому не хотел причинить зла. И все же, не желая того, причинил. Не отдавал себе отчета в том, Насколько эгоистичной была, казавшаяся самоотверженной, моя любовь…
Поезд уже несколько минут стоял на станции. Проводница напомнила моему спутнику, что мы уже в Чите. Растерянный, он схватил чемоданчик и быстро вышел. Мне жаль было с ним расставаться. Уже по пути к выходу, в коридоре, я помог ему надеть пальто. Через открытую в тамбур дверь врывалась вьюга, осыпая нас колючим снегом.
Мой попутчик задержался, хотел что-то еще сказать, но проводница его торопила. Чуть не упав, он соскочил с обледенелых ступенек, а я, окоченевший, в одной пижаме, побежал за своим пальто.
На ковре, у самой двери нашего купе, я заметил толстый конверт, который он, видимо, второпях обронил. Я поднял конверт. Он был адресован в Ленинград на улицу Бродского, Геннадию Львовичу Рабунскому. Как бы мне хотелось знать, что он пишет мужу Ехевед.
Так и не надев пальто, в одной пижаме, я с пакетом побежал в тамбур. Сквозь снежную пелену я различил Зоненталя на пустой ночной платформе. Его растрепанные волосы были припорошены снегом. Он стоял с чемоданчиком в руке и растерянно смотрел на уже тронувшийся поезд.
Я громко крикнул. Но ветер унес мой возглас. Зоненталь не услышал. Я снова крикнул. Он оглянулся, увидел меня. Я вытянул руку, показывая конверт, и с силой бросил к нему на платформу. Ветер подхватил пакет, завихрил его вместе со снежной пылью, подбросил, затем швырнул вниз, на рельсы, по которым уже гулко стучали колеса…
А вьюга все кружила, а вьюга завывала, все более яростно и грозно…
1976