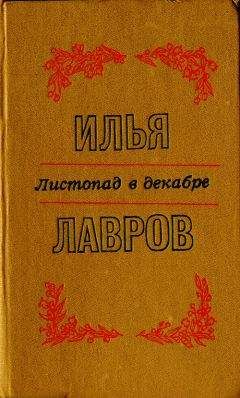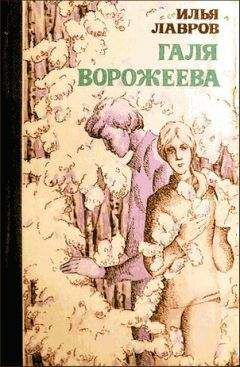Шарафат всегда слегка встревоженная, слегка тоскующая. Как только нет посетителей, она торопливо берет книгу и, полуприсев на подоконник, читает, шевеля губами. Она как будто настойчиво о чем-то спрашивает страницы и, спросив, упрямо ищет ответ.
Однажды Шарафат отложила книгу, сильно потерла смуглый лоб и сердито сказала:
— Зачем бритву взяла? Хлопок сеять надо! Каналы проводить надо! Шелк делать надо! А я помазок взяла… Плохо!
— Не понимаю, — возразил Томилин, шлепая бритвой о лоснящийся ремень, приделанный к столику.
— Возьмите книгу. Много книг, — стучит Шарафат согнутым пальцем по обложке романа, — стройка описывается, колхоз описывается, сражения описываются. Почему? Там — главное. Солдаты описаны, трактористы, шахтеры, агрономы. А скажи писателю: напиши толстую книгу о парикмахере — засмеется. Все смеяться будут.
Шарафат задумывается. Томилин смотрит на нее с интересом. Ему нравятся порывистость Шарафат, ее волнение.
— Уйду я на завод. Или в пустыню канал строить.
Когда они начинают говорить, за перегородкой перестают звякать алюминиевые чашечки, перестает булькать вода и даже дыхание Талалай затихает…
— А вы почему стали парикмахером? — спрашивает Шарафат, чистя расческу о комок ваты.
— И сам не знаю, — смеется Томилин. — Я ведь живу как бог на душу положит.
— Ветер в голове. Неумение анализировать жизненные процессы, — доносится голос Талалай.
— Вот-вот, — хохочет Томилин. — И правда, иногда такое получится, что хоть стой, хоть падай! Лег я спать моряком, а проснулся парикмахером.
— Как это? — не поняла Шарафат.
— А так. Жил я в Ленинграде. Батька — инженер, мать — врач.
— А сынок — лоботряс, — вставляет Талалай.
— Ну вот и представьте себе: три комнаты, а в них — Сережка Томилин. Сам себе хозяин. Отец и мать целые дни на работе. Заберусь на рояль прямо в ботинках, лягу и курю, ногой по клавишам: блям, блям.
Вместо уроков — коньки. Учусь так скверно, что вот-вот выгонят. И принялся я тут бегать. На Тихий океан бежал, на Черное море, хотел стать моряком, уплыть на Борнео.
— О, Борнео! — восхищается Шарафат.
— Началась война. Я навострил лыжи на фронт. Подавай мне сражения, подвиги! Милиционер, конечно, за шиворот. Эвакуировали нас, а батька — на фронт. Мама болеет. Пришлось помогать… Подвернулись курсы, я и рад — лишь бы не в школу. Так и стал неожиданно парикмахером. Отец погиб, мама умерла в Фергане. Вот и вся моя история…
Шарафат смотрит в лицо Томилина. У него такие пушистые, длинные-длинные ресницы, что светлые глаза лежат в них, как в лохматых гнездышках. Глаза веселые, отчаянные. Наверное, он смелый, непокорный. И волосы такие белокурые. Настоящий русский.
Россия, русский — как это все влечет и волнует…
Зина стала заходить в парикмахерскую чаще. Теперь она появляется внезапно. Сразу осматривает злыми глазами Томилина и Шарафат. В их внешности ей мнится что-то особенное: у Томилина будто волосы взлохмачены, губы припухшие, у Шарафат глаза сияют.
Зина бледнеет, в глазах мутится.
— Э-хе-хе! Человек — это стихия. Ничего конкретного! — бормочет Талалай.
Томилин смотрит на нее бешеными глазами. Это она, конечно, что-то нашептала Зине.
Зина оказалась болезненно ревнивой. Если он на улице случайно взглядывает на какую-нибудь женщину, Зина раздувает ноздри. Если он останавливается поболтать со знакомой, лицо у нее искажается.
Томилин вдруг замечает, что ему не о чем говорить с ней. Она возится по хозяйству, или спит, или судачит с Талалай. Из кухни иногда доносится ее поучающий голос:
— Зина, у тебя слишком фигурирует в борще перец.
«Вот-вот, там ты на своем месте», — хмурится Томилин…
…Однажды во время перерыва Томилин заходит в чайхану. Домой его вдруг перестало тянуть.
Несколько деревянных помостов устроено под тополями на берегу бурной речки. Один для прохлады перекинут через речку, как мост. Сейчас на этом помосте, застланном плешивым ковром, сидит одна Шарафат. Туфли она сняла, ноги калачиком. Перед ней чайник, поднос с лепешкой и розовым виноградом, в руке пиала.
Томилин забирается к Шарафат. Под ними бушует речка, над головой плещутся космы плакучих ив. Прицепленные за ветки, висят электрический шнур с лампочкой и клетка с перепелом. На помостах узбеки в халатах пьют чай. Томилин кричит мальчику, и тот приносит чайник с пиалой.
Шарафат полна вопросов. Томилин то и дело слышит: «А почему? А где? А кто? А как?» И он рассказывает, а она жадно слушает.
— Я никогда не видела море. Какое оно? — задумчиво звучит голос Шарафат. — А реки? Русские реки? О, большие, большие. Холодные, прозрачные… А тайга? Какая она? Тысячи километров — все лес, лес? Ай-я-яй! Даже страшно. Где я была? Вы счастливый. Много видели. Много знаете.
Шарафат смотрит на облачко. А Томилин смотрит на нее. Чай остывает. Томилин чувствует в этой девушке что-то взволнованно-порывистое. Почему-то врезаются в память извивы синих кос на вытертом ковре, лампочка в космах ветвей, розовая гроздь винограда на подносе.
Томилин закрывает глаза, и ему чудится, что в его жизни что-то произошло.
Под черным котлом пылают сучья — пахнет пловом. Звенят пиалы. В речке плывут арбузные корки. В виноградниках вспархивают горлинки.
Томилин бросает серебро в пиалу. Сходит за Шарафат на берег. В открытую калитку видно: старик узбек обвязывает большие дыни крест-накрест камышом, подвешивает на крюки к потолку сарая.
Все обычно. Как всегда. А что же все-таки случилось? Нет, ничего не случилось.
— А Бразилия? Аргентина? Какие страны?
Голос точно издали. И этот голос он слышит будто уже много лет и будет слышать вечно, всегда. Но что же случилось? Откуда эта тревога и тоска?
А дома с Зиной все хуже и хуже. Теперь ему ясно, что он никогда не любил ее. А для чего была женитьба — неизвестно. Разве что для ковриков на полу, для шторок на окне, для вкусных обедов. «Да разве женятся для этого?» — вдруг удивляется Томилин.
Под Новый год, после очередного налета Зины на парикмахерскую, Томилин сказал дома:
— Хоть бы уж вспомнила о вежливости, здоровалась бы хоть. А то сгораешь со стыда за тебя!
Зина багровеет, швыряет чашку на пол и убегает к матери.
— Отметили Новый год, — говорит самому себе Томилин и опять думает: «Зачем эта женитьба?»
Весь декабрь было сухо, тепло, солнечно, и ферганская зима походила на русский золотой сентябрь. Ходили еще в пиджаках. На чинарах густо висели большие ржавые, покоробленные листья. Но в эту новогоднюю ночь неожиданно налетела буря, кропил порывами дождь и начался последний листопад.
Подняв воротник пальто, бредет Томилин, сам не зная куда. Тепло. Арык булькает так прерывисто, словно собака лакает. Ревет буря в зарослях огромных деревьев. Клубами, стаями уносятся листья.
Асфальт залеплен толстыми пластами листьев. Ноги выжимают из них струйки воды. Собственная жизнь кажется Томилину испорченной, запутанной. Во всем он чувствует виноватым себя. Чего-то не хватает, как-то пусто, беспокойно. Как будто нет места в жизни, и он тоскливо ищет его… Нет, не то! Скорее, куда-то не успевает, а нужно успеть, нельзя прозевать… Нет, не то! Что-то очень дорогое уходит, уносится навсегда… Опять не то! Невозможно разобраться. Все смутно и тоскливо.
Смеясь, напевая, проходят компании молодежи. Некоторые прячут под полы пальто гитары. У них все ясно, все просто. И как хорошо, когда все ясно, все просто.
И вдруг из толпы девушек-узбечек к Томилину подбегает Шарафат в белом плаще.
— Куда?.. Грустный почему?
Томилин зажмуривается и радостно сжимает ее руку в кожаной, забрызганной дождем перчатке. Все смутное, тревожное становится понятным. Он удивленно смотрит на нее.
— Что? — спрашивает Шарафат.
— Нет, ничего. Нет, — испуганно говорит он. — С Новым годом тебя! — И, помедлив, добавляет: — С новым счастьем!
Она медленно уходит.
Ветер подхватывает косы и белый плащ, они рвутся обратно, и Томилину кажется в темноте, что Шарафат не уходит, а возвращается к нему.
Домой он бредет, как усталый, пожилой человек. Не заметив, проходит свой дом и все идет, идет…
Зима устанавливается мягкая-мягкая, сырая, без снега. В тумане стоят голые влажные сады. Невидимый дятел стук! стук! стук! — словно по сухой дощечке сухой палочкой. И грустно слушать эти звуки в опустелых садах. Сжимается сердце. И все же наслаждение вдыхать свежий, холодный воздух. И все же хочется жить. Как будто все время впереди машет веткой белая весна.
Томилин входит в парикмахерскую.
Шарафат уже бреет молоденького, с красной шеей лейтенанта. Она не поворачивается. Томилин смотрит в зеркало, там встречаются их взгляды, глаза светлеют.
Томилин взбивает на тугих щеках клиента клубки пены, а сам слушает, как в душе возникают какие-то печальные звуки. Он перестает брить и тут же понимает, что это на улице по радио поет виолончель. Звуки смутно пробиваются в парикмахерскую.