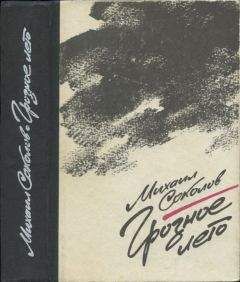Однако предпринимать что-либо было уже поздно: вечером этого же дня пришел комендант местной жандармерии вахмистр Матышчук с понятым крестьянином и объявил:
— Я буду производить у вас обыск, так как на господина Ульянова поступил донос, что он срисовывает местность под видом прогулок. Идет война, и вы понимаете, что это значит.
У Надежды Константиновны округлились глаза, и она хотела перевести эти слова Ленину, но он и без того все понял и взорвался. Его подозревают в шпионаже! Можно ли придумать глупость более несусветную? От жандармов можно ожидать все, что им вздумается, тем более здесь, в чужой стране, во время войны, но такого навета, а вполне возможно, что и провокации, трудно было и вообразить. Да, конечно, жандармы есть жандармы и все шиты на один лад, и он достаточно знал их повадки, и провокационные манеры, и приемы и тем не менее был огорошен крайне и, сорвавшись с места и сделав несколько шагов взад-вперед по большой комнате, остановился против вахмистра, расг сматривавшего косым взглядом комнату-столовую и настороженно поглядывавшего на лестницу, что вела наверх, — знал, что там именно находится все, о чем шла речь в доносе.
Ленин продолжал возмущаться.
— И вы, жандармы, отдаете себе отчет в том, что сказали, что сделали? — напустился он на вахмистра, так что тот немного даже оробел, однако скоро обрел надлежащую форму.
— Но на вас есть донос, господин Ульянов! — патетически произнес он, скорее по тону, каким говорил Ленин, поняв его слова.
— Вы подумали о той элементарной вещи, которая называется здравым смыслом: я, социалист-эмигрант, не имеющий права жить в России, преследуемый самодержавием лично, как его давний противник, что я могу заниматься шпионской деятельностью во имя этого самого самодержавия? Абсурд же архинелепейший! Глупистика архинеуклюжая, которую трудно представить, даже обладая самой пылкой фантазией. Надя, переведи это сему господину. Добавь, что меня отлично знает краковская полиция, где я самым подробнейшим образом давал показания комиссару, и что я немедленно к ней обращусь.
Надежда Константиновна не подавала вида, чтобы Ленин совсем не разъярился и не напустился бы на жандарма себе же на беду, и перевела его слова мягко, от себя добавив:
— Господин Ульянов является самым яростным врагом русского самодержавия и известен всем европейским социалистам, в том числе и депутатам австрийского парламента Адлеру и другим. Его просто невозможно подозревать в какой-либо деятельности в пользу русского царизма.
Вахмистр был просвещен и возразил:
— Знаем мы этих европейских социалистов: все выступили против нас заодно со своими правительствами — нашими врагами. Так что, госпожа Ульянова, я обязан произвести обыск, составить протокол и препроводить господина Ульянова в уездный старостат, в Новый Тарг.
И начал обыск с того, что осмотрел столовую, затем поднялся на второй этаж по дощатой лестнице из крепких сосновых досок, осмотрел комнату, где Ленин жил и работал, даже сильно нажал ногой на половицу, шириной в добрых пол-аршина, и сказал весьма похвально:
— Добрая хата, добрый был хозяин Франтишек Скупень, дай ему бог вернуться домой живым-невредимым. Тереза, должно, ревет каждый день? — спросил он у Надежды Константиновны, видимо желая сгладить неприятное впечатление от своего появления здесь интимностью этих слов.
— Все время плачет. Говорит, что лучше бы он сидел дома, ей было бы спокойнее с сынишкой.
— Тереза — баба добрая, но дурная. Война, надо же кому-то идти на нее? А сыну Франтишеку уже пятнадцать годков, так что почти кормилец. И должен гордиться своим отцом — он шел в строю храбро, как герой, и наверняка вернется с войны с медалькой.
Надежда Константиновна видела, как шел Франтишек-старший: голова опущена, руки висят, как плети, ноги идут, как в неволе, но говорить об этом не стала. Не до Франтишека было: жандарм сказал, что на Ленина поступил донос. Обвинение в шпионаже! Можно ли было придумать глупость более несуразную? Кому взбрело в голову подобное? Донос ксендза, к которому бегает Виктория? Или донос самой Виктории, написанный под диктовку ксендза, который всячески разжигал шовинистические страсти с амвона? Надежда Константиновна сама слышала, как возвращавшиеся из костела женщины грозились всем русским, если власти не арестуют их и не посадят в тюрьму. Но что с них взять? Темнота кромешная…
Ленин ходил по комнате, ожидая, пока вахмистр закончит обыск и начнет допрос и составление протокола. И думал: зря, напрасно он задержался здесь с семьей, надеясь, что горный климат, как говорили врачи, поможет Надежде Константиновне, страдавшей базедовой болезнью. Все равно не помог. И лучше бы было ехать из Кракова прямым сообщением в Швейцарию, ибо совершенно ясно было уже после Сараева: войны не избежать, Австрия упорно к ней стремится, подстрекаемая Германией, и не идет ни на какие переговоры с Сербией и Россией. И Пуанкаре конечно же все уже обсудил с Николаем Вторым, когда только что был в Петербурге, и Николай уже объявил мобилизацию четырех военных округов, как пишут газеты.
И Ленин возмущался: «Чего еще нужно было ждать, позволительно спросить? Все было предельно ясно и понятно, и сидеть вблизи русской границы было небезопасно. И вот досиделись: я — шпион! Чудовищно! Меня, конечно, арестуют. А что будет с Надей? С ее больной матерью? Денег нет, присланные Самойловым из Женевы пятьсот франков не выдают. К польскому обществу вспомоществования политическим эмигрантам обращаться неудобно, есть другие, более нуждающиеся товарищи из русской эмиграции. А в кутузке, в коей я могу очутиться, много не заработаешь на хлеб насущный, ничего там не напишешь и никуда оттуда не пошлешь. Да и границы все закрыты, посылать не придется вообще. Получается, что и дела не из завидных и придется что-то предпринимать немедленно. Иначе будет поздно…»
— Господин Ульянов, прошу вас сесть. И отвечать на мои вопросы, — прервал его размышления вахмистр Матышчук.
Ленин сел на табурет и увидел: Матышчук открыл ящик стола и хозяйничал там, как в своем собственном, доставая письма и складывая их стопкой на столе, потом достал дамский никелированный браунинг, один патрон к нему, осмотрел их и спросил:
— Разрешение на браунинг имеется? Нет, конечно, поэтому конфискуется, — И, вложив патрон в обойму, спрятал браунинг в карман, — А что это за тетради, таблицы цифр? Шифр, должно? — спросил он у Надежды Константиновны.
— Это моя работа по аграрному, сельскохозяйственному то есть, вопросу и таблицы к ней. Никакого отношения все это к шифру, как вы говорите, не имеет, — ответил Ленин, недовольно поворочавшись на табурете, а потом встал, отставил его в сторону и остался стоять у стола, за которым, как у себя дома, восседал Матышчук и, тупо уставившись в тетради злым взглядом, покручивал толстый ус полными красными пальцами.
Надежда Константиновна хотела перевести слова Ленина, но Матышчук сказал, что он понял все, и опять стал копаться в столе, ища что-то там особенное. Но ничего более там не было, и он закрыл его и принялся за протокол, а стопки писем, за которые более всего боялись Ленин и Надежда Константиновна, отодвинул рукой в сторону, вовсе ими не интересуясь или делая вид, что не интересуется.
Допрос ограничился самыми общими вопросами о биографии Ленина и его занятиях здесь, в Белом Дунайце, о целях прогулок по окрестностям с русскими эмигрантами, наконец о том, кто и почему присылает Ульяновым деньги.
— …которые вы теперь все равно уже не получите. В Кракове лежат на ваше имя четыре тысячи рублей, в Поронино пришли из Швейцарии пятьсот франков… Какие это деньги? — спрашивал вахмистр.
Надежда Константиновна ответила:
— У моей мамы была сестра в России, в Новочеркасске, столице донских казаков, классная дама. За тридцать лет педагогической службы она кое-что скопила и завещала моей маме. Теперь тетя умерла, и вот ее сбережения пришли сюда по завещанию. А деньги из Женевы прислал наш товарищ по партии, Самойлов, который лечится в Швейцарии.
Вахмистр был удовлетворен ответом и более о деньгах не спрашивал и погрузился в составление протокола, сказав:
— Я должен все это записать. А господина Ульянова должен препроводить в старостат, в Новый Тарг.
— То есть вы, попросту говоря, хотите арестовать меня? — спросил Ленин, все время стоявший молча.
— Я не хочу вас арестовывать, я хочу препроводить вас в Новый Тарг, а там староста скажет, что делать дальше, — ответил вахмистр, а когда окончил протокол, встал из-за стола, вышел на балкончик посмотреть, что творится на улице, и, вернувшись, произнес с полным разочарованием в голосе:
— Идет. Льет. А не буду я препровождать господина Ульянова в комендатуру. Скажите ему, чтоб завтра он сам пришел к шестичасовому утреннему поезду, я его там буду ждать. Поедем вместе.