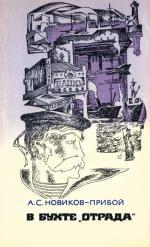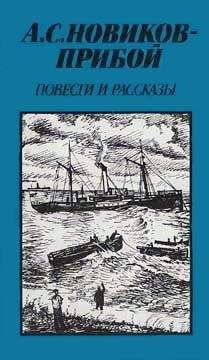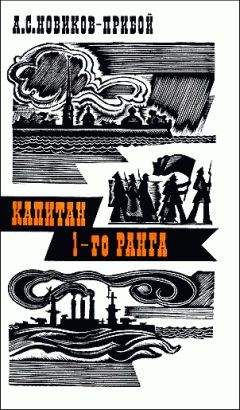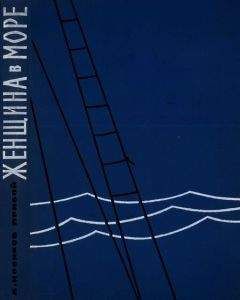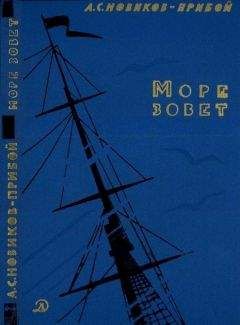боцмана. Только одного Зудина он не трогал, стараясь не замечать его, боясь с ним встретиться. А тот кое-как, с грехом пополам выполняя свои обязанности, не принимал никакого участия в суматохе, происходившей на корабле, и больше всего сидел в носовом отделении, низко склонив голову, огромный и нескладный, как статуя каменного века. Изредка он выходил к фитилю, где молча курил свою «самокрутку» и мрачно глядел куда-то мимо людей. А если иногда случалось, что он уставится на кого из матросов, то никто не выдерживал его взгляда, долгого и упорного, вставал и, уходя, заявлял:
– Чтоб тебе провалиться на этом месте!.. Наградит же ведь господь бог такими глазенапами…
Однажды темной ночью, осторожно шагая, подгибаясь под подвешенные парусиновые койки, Зудин долго ходил по жилой палубе, чуть освещенной электрическими лампочками, оглядываясь по сторонам, точно кого-то разыскивая.
– Ты что ходишь? – спрашивали его матросы.
Он не отвечал, продолжая ходить, как лунатик.
Своим поведением, мрачным видом, внушавшим людям непонятный страх, своею постоянной замкнутостью, скрывавшей его прошлое, он заинтриговал матросов, возбуждая у них интерес к себе. О нем спорили, гадали, но никто не мог проникнуть в темные недра его души.
В одном лишь соглашались все:
– Он не только чужого, а даже родную мать может зарезать и не дрогнет…
Обратились к авторитету фельдшера, к молодому щеголеватому человеку с рыжими пейсиками на висках.
– Скажите на милость, как понять матроса Зудина?
Тот, подбоченившись, приподняв брови, начал говорить долго и пространно о душевнобольных, пересыпая свою речь непонятными медицинскими словами, и наконец закончил:
– Проще сказать – шалый он.
– Вот это верно, – подхватили матросы. – Так бы прямо и сказали. А то путали, путали…
– А не опасный он? – справились у фельдшера более робкие из них.
– Нет, нисколько.
С тех пор матроса Зудина стали прозывать Шалым.
В ближайшее воскресенье, в прекрасный солнечный день, когда очередное отделение команды готовилось «гулять на берег», Шалый явился в каюту старшего офицера, заградив собою весь квадрат открытых дверей.
– Ты зачем сюда? – строго спросил Филатов.
– Отпустите в город, – не поднимая головы, процедил Шалый.
– Не могу…
– Почему?
– Потому что ты…
Старший офицер вскочил со стула, сразу замолчал и попятился назад, в угол каюты, точно толкаемый невидимой силой, а на него из глубоких орбит, окруженных синяками, мрачно уставилась пара темных глаз. Он впервые увидел лицо Шалого, не по годам изношенное, измученное, с крупной трагической складкой поперек лба, и, чувствуя страх, смешанный с жалостью, к этому несчастному человеку, заговорил снисходительно:
– Хорошо, хорошо, иди в город…
Шалый продолжал стоять, точно ничего не понимая.
– Говорят тебе, иди! Отпускаю я тебя, понимаешь? – возвысив голос, закричал Филатов, точно перед ним стоял глухой.
Шалый молча повернулся и медленно зашагал от каюты.
– Черт знает что такое! – посмотрев ему вслед, рассердился старший офицер на самого себя. – Напрасно отпустил…
А в городе в этот же день с Шалым встретился боцман, который, немного подвыпив, быстро шел по тротуару на рынок, часто поглядывая по сторонам, чтобы не пропустить офицеров без отдания чести. Два противника почти столкнулись нос с носом и на минуту остановились, точно в раздумье.
– Ну? – подавленно произнес Задвижкин.
– Что ну? – спросил Шалый, мотнув головою.
И опять, как и при первой встрече с этим матросом, страшно стало боцману, опять в его душу закрался холодный ужас. Повернувшись, он проворно зашагал на другую сторону улицы, отчаянно ругаясь и часто оглядываясь, точно боясь погони.
На следующий день старший офицер, позвав к себе боцмана, спросил:
– Ну, как этот идиот, Зудин, исправляется?
Боцману стыдно было признаться в своем бессилии, еще больше – в своей трусости, которой он – решительный и храбрый – никогда не знал за собою.
– Будьте спокойны, ваше высокоблагородие, – мы из быка сделаем матроса.
– А как обязанности он свои выполняет?
– Великолепно, ваше высокоблагородие! – невольно уже врал боцман дальше.
Старший офицер, удовлетворенный таким ответом, на этом успокоился.
III
«Залетная», выкрашенная в белый цвет, чисто вымытая, отправилась наконец в свой дальний путь.
Проходили дни за днями, однообразные, похожие один на другой, беспрестанно работала машина, двигая лодку вперед – во Владивосток. Стояла хорошая солнечная погода, лишь изредка омрачавшаяся тучами, с короткими налетами ветра, точно дразнившего море. Давно уже скрылись берега с золотистыми песками, с постройками городов, с зелеными рощами, с пышными садами, и все шире, чаруя человеческий глаз, развертывалось море, а над ним, богато разбрасывая горячие лучи летнего солнца, прозрачно-голубым куполом висело ясное небо. Среди пустынного простора приятно было встретиться с каким-нибудь другим кораблем, обменяться, подняв флаги, приветствиями и разойтись в разные стороны, растаивая в синеющей дали.
Для команды теперь было меньше работы, она больше отдыхала, поправлялась, наливаясь здоровым соком. Свежее стали лица матросов, чаще слышался смех, а по вечерам, после ужина, на баке у всегда горящего фитиля раздавались залихватские песни. Боцман, раньше державший в страхе всю команду, не знавший себе удержа в издевательствах над ней, по мере того как «Залетная» все дальше уходила от отечественных вод, становился добрее, заменяя прежнюю ругань шутками.
– Петров! – внезапно в присутствии команды обращался он к знакомому матросу, стараясь придать себе начальнический вид.
– Чего извольте, господин боцман? – отзывался тот.
– Это я так, чтобы не забыть, как звать тебя…
Матросы смеялись.
Они прекрасно понимали, почему боцман стал относиться к ним лучше, – он боялся Шалого, всюду следившего за ним своими страшными глазами, – и старались еще больше запугать его, постоянно докладывая:
– Эх, Трифон Степанович, несдобровать вам…
– То есть как это? – встрепенувшись, спрашивал боцман.
– Очень просто: укокошит вас Шалый, и больше никаких. Ему все равно, раз он полоумный. Что с ним сделаешь?
И действительно, когда бы боцман, будучи на верхней палубе, ни заглянул под полубак, в уборную, он всегда неизбежно встречал там Шалого, следившего за ним, как паук за своей жертвой. Но Задвижкин, стараясь скрыть свою тревогу, храбрился перед матросами:
– Чтоб я да его испугался! Да я из этой полоумной балды такого форменного матроса сделаю, что волчком будет вертеться, молнией по кораблю летать… Не таких укрощали.
Горячась, он ругался и кричал, бил себя в грудь кулаком, но ни в голосе, ни в жестах его не было той уверенности, какая замечалась в нем раньше.
– Нет, Трифон Степанович, ничего вы с ним не поделаете, – возражали матросы. – Силен он, Шалый-то. Надысь он целую бухту стального троса поднял. А в ней, поди, пудов двадцать есть. Так, ни с того ни с сего, взял да поднял, вроде как хотел свою силу показать.
Хуже всех донимал боцмана своими