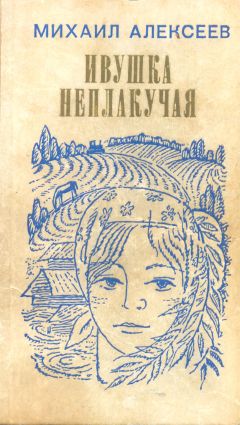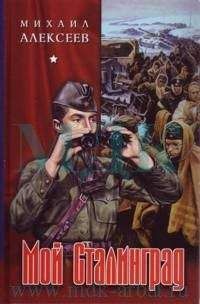Аграфена Ивановна уже не плакала, лишь время от времени тяжко вздыхала. Потом неслышно поднялась, опять подошла к сундуку, долго рылась там, отыскивая что-то. Наконец нашла и вновь присела у дочернего изголовья. Зажгла свечку. Попросила слабым, больным голосом:
— Почитай-ка.
Феня взяла бумагу, которая побывала в ее руках, верно, десяток уж раз. Не заглядывая в текст, поскольку знала его наизусть, начала негромко, но внятно читать:
«Дорогие мои тятя, мама, Феня, Павлуша, Катенька и Филипп-младший! Сообщаю, что я жив, здоров, чего, разумеется, и вам всем желаю. Мне совсем хорошо, потому что определили нас в минометную роту вместе с Серегой: меня наводчиком, его заряжающим. А командиром взвода на днях прислали нашего товарища по училищу Семена Мищенко — вот было радости! На нашем счету несколько фрицев. Самое цифру, приписываемую нам, назвать боюсь: кажется, она сильно преувеличена. Да, признаться, и стыдно хвастаться перед вами, когда «наступаем» мы пока что пятками вперед. Вчера прямо на передовой, в донской степи зачитали приказ товарища Сталина. Влетело нам от Верховного по первое число. Сейчас мы, бойцы Красной Армии, узнали, что вы, то есть народ, проклинаете нас за бесконечное наше отступление. Весь день мы не глядели в глаза друг другу — так было тяжело и стыдно. И поняли с особенной силой, что отходить больше нельзя ни на единый шаг. Ночью всем нам выдали по две тяжелые противотанковые гранаты — на случай прорыва немецких танков. Хотите вы верьте, хотите нет, но как-то про себя я решил твердо: умру, а не сойду с места, на котором сейчас стою и откуда посылаю вам, дорогие мои, это письмо. Знаю, что и
Серега, и Семен, и все в нашей роте думают так же. Словом, за себя я не беспокоюсь. А вас вот мне жалко: тятю, наверно, скоро тоже возьмут, а Павлик, хоть он и научился материться по-мужичьи, неважный еще работник. Вся надежда на Феню да на тебя, мама. Ты у нас пускай и ворчунья, но самая-самая работящая. Берегите друг друга.
До свидания. Крепко-крепко целую всех вас.
Ваш Григорий Угрюмов».
Феня замолчала и перевела дыхание. Мать беспокойно зашевелилась на своем табурете, сказала обиженно:
— Ты чего же пропускаешь?
— Что ты, мама? Все Гришино письмо — от слова до слова!
— Прочитай-ка еще последние-то слова.
— Хорошо, слушай. — На этот раз Феня поднесла свечу и глянула в бумагу: — «До скорого свидания. Крепко-крепко целую всех вас. Ваш Григорий Угрюмов. Июль, 1942 год».
— Ну вот. Вишь, сколько слов-то выронила! — Взяв из рук дочери бумагу, Аграфена Ивановна бережно свернула ее, унесла в сундук. Выходя из горницы, повторила: — «До скорого свидания»! Ох, Гриша, Гриша, крови-нушка ты моя! Дождусь ли я этого свидания? Пресвятая богородица, заступница наша, убереги его, спаси и помилуй!
В задней комнате она упала на колени и долго разговаривала со своею заступницей, прося у нее помощи и защиты, и при этом голос Аграфены Ивановны был тих, благостен и покорен. Но стоило ей перейти к супостату Гитлеру, как в горле у нее закипели, заклокотали проклятия, и уж не умоляла, а требовала она от богородицы покарать нечистую силу, обрушить на того изверга все кары небесные, весь божий гнев, навлечь на него геенну огненну.
На заре проводила мужа без слез. Выплакала ли их раньше, ожесточилась ли сердцем, но глаза были сухи, тлела потихоньку лишь давно основавшаяся в них и ни на минуту не покидавшая скорбь, — думается, явись сейчас в дом нежданно-негаданно самая великая радость, то и она не отогнала, не отпугнула бы этого настороженного, ожидающе скорбного выражения на когда-то мягком, добром, но сейчас суровом лице. Павлику, вызвавшемуся отвезти отца на правленческом, единственно остававшемся еще в колхозе приличном скакуне, строго-настрого наказывала:
— Дотемна-то не задерживайся. Засветло вернись. В лесу, сказывают, пошаливает кто-то, лихие люди объявились. Свернут голову, как куренку. И ты, отец, не задерживай его там.
Феня предложила:
— Можа, мне поехать?
— Это еще зачем?! — Леонтий Сидорович строго посмотрел на дочь. — Ты почему до сих пор не в поле? Видишь, уже коров выгоняют. А ну, марш, марш! Павлик без вас управится. Давай-ка щеку! — Он обнял Феню, хлопнул слегка по спине и тихонько оттолкнул от себя. — Ступай! Ну, мать… — подошел к смотревшей на него молча Аграфене Ивановне, так же коротко коснулся сухих, вздрагивающих и морщившихся от сдерживаемой боли губ. — Держись… Обо мне не думай… В обоз куда-нибудь определят твоего старика… Ну, ну, не надо! Вот так… Ты у меня ведь молодчина. Помнишь, поди, на первую германскую провожала… Ну, Павлуха! Где ты? Садись, сынок!
Заехали за Санькой Шпичом — председатель сельсовета не стал ждать, когда снимут с него бронь, допек-таки и военкома и райисполком — отпросился на фронт.
Подъезжая к его дому, Леонтий Сидорович и Павлик издали увидели: какая-то девчонка стояла на улице и не сводила глаз с Санькиных окон, явно ожидая выхода самого Саньки. Легонькое голубое, совсем выцветшее, почти белое платьице, потревоженное спустившимся с горы ветерком, трепетало, похлопывая босые ее ноги. Когда подъехали поближе, Леонтий Сидорович подивился:
— Никак, Настёнка Вольнова? Она и есть! Насть, ты чего это тут?! — крикнул председатель. — «Универсал» на кого ж оставила?
— Я сейчас бегу в поле, дядя Леонтий! — ответила Настя, и видно было, как она вспыхнула вся, тряхнула головой так, что одна косичка отскочила за спину, а другая заметалась на груди. И когда появился в дверях тот, кого она ждала, махнула рукой и тотчас же скрылась за углом дома. Леонтию Сидоровичу показалось, что Санька Шпнч ее и не видел.
Возле военкомата Леонтия Сидоровича и Саньку ждал первый секретарь. Не. успели они слезть с брички, как тот заговорил:
— Завидую вам. Хочется мне покомиссарить в дивизионе, в батарее ли.
— Покомиссарить, ишь ты! — улыбнулся Леонтий Сидорович. — А рядовым не хошь — в пехоте, а? Как вот мы с Санькой?
— Готов и рядовым, только зачем же в пехоте, коль я артиллерист? Да вот беда, не отпускает обком, и врачи на его яге стороне — окопался в моих легких еще с тридцатых годов завалящий, плюгавенький туберкулезишко, вот они, врачи, и прицепились к нему.
Леонтию Сидоровичу и Саньке Шпичу было неловко оттого, что секретарь райкома вроде бы извиняется перед ними, хотя, кажется, мог бы этого и не делать: должность его такая, что и в мирное-то время как на войне, а в военное — и того паче, любой бы предпочел фронт, передовую. Что же касается «завалящего, плюгавенького», то все в районе давно знали, как мучает он, гложет неунывающего этого человека, как худо бывает ему в весеннеосеннюю распутицу, каким черным, землистого цвета становится его сухонькое, из одних морщин лицо. Тут не могла его выручить даже всегдашняя ирония, которой, словно броневым щитом, заслоняется Федор Федорович от бесконечного количества служебных и житейских неурядиц.
По взгляду, по другим ли каким приметам, но Зно-бин безошибочно определил, что могли испытывать встреченные им люди после его слов, и потому поторопился все свести к шутке, то есть прибегнул к средству, давно и хорошо отработанному и испытанному, неизменно выручавшему его в подобных ситуациях:
— Таких, как я, похоже, приберегают к Христову дню, к великому празднику. Когда вы до Берлина дотопаете и силенки ваши иссякнут окончательно — вот тогда-то и пробьет мой час., — Это верно, — принял шутку Леонтий Сидорович, — для последнего штурма, должно, вас приберегают, Федо-рыч. Глядите только, не остался бы на вашу долю шапочный разбор.
— Нет, Леоптий, не скоро, видать, он наступит, тот разбор шапочный, — уже серьезно и с отчетливо различимой тревогой в голосе заговорил секретарь. — Слыхали гул?
— Как не слыхать! Ночью мы, мужики, видели с Чаадаевской горы далекое зарево. Что он там поджег, не знаешь ли?
— Завод «Крекинг» в Саратове.
— и-да…
— Ну, довольно вздыхать. Пойдемте к военкому, у него уже собралось десятка два таких же воинов, как вы, — потолкуем. Боюсь, мужички, придется вам прямо в бой — на Дону уж немец, недалеко отсюда. Два-три пеших перехода — и вот она, война. Ну, пошли.
Часом позже Павлик чуть не задохнулся было в отцовских объятиях. И более всего удивило и огорчило Павлика, что тятька его при этом был не похож на самого себя, губы тряслись по-бабьи, и Павлику было невыносимо душно, тягостно оттого, что его целуют и тискают в руках, как малого ребенка.
— Тять, ну будя, будя же, — ворчал Павлик, высвободившись из отцовских рук, — я поеду, не то мама будет беспокоиться.
— Ну, поезжай, поезжай, сынок, — заторопился и отец, и глаза его были уже сухие, только покраснели немного.
Павлик круто развернул жеребца, по-ямщицки гикнул, взмахнул кнутом и вмиг растворился в густой, непроницаемо плотной пылище. Серый жеребец и белоголовый возница, пока выбрались на околицу поселка, обрели каурую масть.