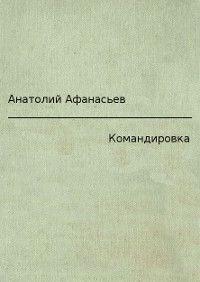Я живо представляю бледного, измотанного парнишку с потухшим взглядом, моего отца, мечущегося по Москве в тщетной надежде вырваться из капкана.
А тем временем добрая, гордая, юная мама моя, заводская девчонка, огненный мотылек, каждый день вскакивала в четыре утра, готовила завтрак братьям и отцу, прибиралась, выходила из дому, сорок минут шла пешком до станции, тридцать минут ехала на поезде, десять минут на трамвае, еще двадцать минут пешком — и с торжествующей улыбкой влетала в проходную, ученица наладчика токарных станков, рабочий класс, самая равноправная из всех равноправных.
В обеденный перерыв, если не было каких–нибудь срочных комсомольских поручений, Катя Сабурова бежала в полюбившийся ей укромный скверик неподалеку от завода, с аппетитом съедала там на скамейке принесенные из дома припасы и успевала минуток десять–пятнадцать сладко подремать.
Однажды, прибежав, она с огорчением увидела, что ее скамейка, затаившаяся в кустах сирени, занята. На ней, как–то неестественно уткнувшись щекой в плечо, полусидел–полулежал светловолосый юноша. Из закрытых, сожмуренных глаз парня, по бледной нездоровой коже, струились два ручейка слез, серыми полосками сливаясь у подбородка и затекая за воротник. Если бы не эти слезы, можно было подумать, что лицо принадлежит мертвецу: знобящая неподвижность в склоненной фигуре, неживой серый цвет обливает скулы.
— Вам плохо? — спросила она негромким, дрогнувшим голосом. — Эй, гражданин, вам плохо?!
Мой отец нехотя очнулся и распахнул на Катю такое море печали и ярости, что она чуть было не утонула в нем. И он спросил:
— Тебе чего, девушка?
— Ничего, мне… — забормотала Катя, протягивая, как защиту, пакет с едой. — Вы лежите… я думала… А так — ничего…
— Если ничего, то и проваливай!
— Может быть, вы хотите покушать?
— Покушать хочу, — сказал отверженный. — А ты деревенская, я вижу. Потому и лезешь без приглашения… Ладно, садись.
— Я не лезу. — Катя, заалев от возмущения, бросила ему пакет, отвернулась и пошла прочь.
— Погоди! — попросил вдогонку Андрей. — Не обижайся!
Они вместе перекусили на этой лавочке, поболтали, посмеялись. Андрея как прорвало. Он все выложил доверчивой незнакомке: про себя, про отца–контру, про несправедливость жизни, про конец света.
Катя солила ему помидоры, сочувственно всплескивала руками, попискивала, потом солидно заметила, покашляв в ладошку:
— Подумаешь, документы вернули. Иди к нам на завод. У нас такие люди хорошие, сам удивишься…
И добавила некстати:
— Это моя лавочка, я всегда тут обедаю.
— Хорошо, — сказал Андрей, — я запомню.
— Я побежала, пора. Больше, гляди, не плачь.
— Спасибо тебе!
Легко шагал домой Андрей Семенов. Новое сильное впечатление столкнуло груз с души. «Какая девушка, — ошеломленно думал он. — Как ребенок. Подошла, накормила. Все чисто, просто. Какая волшебная девушка».
Властные трубы любви прочищают голоса, прежде чем загреметь в полную мощь. Он еще не подозревал об этом. Пока он лишь с удивлением заметил, что в Москве — лето, жизнь продолжается и улицы полны смеющимися людьми.
Хорошие люди работали не только на Катином заводе. В школе, где учился Андрей, справляла должность завуча женщина средних лет, суровая, как ветер гражданской, с впалыми щеками, пробитыми, казалось насквозь, дырочками оспы, носившая редкую и смешную фамилию Сверчок–Разумовская. Это она, узнав от матери Андрея о случившемся, составила письмо–характеристику, заверила письмо у директора школы и у педагогов, учивших Семенова, и с этим письмом исходила все нужные инстанции.
Андрею пришел официальный вызов на экзамены.
Он был принят.
Любопытно, что тайный доброжелатель не смирился и год спустя снова сообщил в училище всю правду об Андреевом отце, присовокупив не без сарказма, что если приняли учиться сына такого человека, то, может быть, стоит поинтересоваться, кто у вас сидит в кадрах?
Было комсомольское собрание второго курса, где Семенов еще раз подробно изложил свою историю.
Собрание приняло резолюцию о доверии курсанту Андрею Семенову. Присутствовал тут и безымянный человек в армейском кителе без знаков различия, он притулился в уголке аудитории, издали поощрительно улыбался Андрею и один раз подмигнул, точно хорошему приятелю. Из–за него мой отец, выступая, сбивался, мямлил и неожиданно для себя высказал спорную, мягко говоря, мысль о том, что бдительность не должна быть ни близорукой, ни слишком дальнозоркой. Как раз после этой фразы из угла донесся зловещий смешок. Однако все обошлось.
Как много людей неизвестно для нас вмешиваются и решают нашу судьбу так же, как и мы, порой не давая себе отчета, влияем на чужие судьбы. Задумаешься, сколько ошибок надо бы поправить, а возвращаться назад нет охоты. Дай мне возможность все начать сначала, откажусь. Скучно и лень. Да и какой смысл? Ожившие надежды погибнут вторично, воскресшие дорогие образы заново канут в тьму. Это жестоко. Иное дело — влажные побрякушки воспоминаний, они всегда под рукой. Надоест перебирать и утешаться, пожалуйте на полочку до следующего раза.
Спустя четыре месяца мой отец, Андрей Семенов, в полном курсантском обмундировании, сияя пуговицами и сапогами, знобясь от декабрьской измороси, терпеливо поджидал на скамейке в скверике. Он Катю не забыл. Он вкус ее хлеба и помидоров помнил.
Она не пришла в этот раз. Может, скамейку поменяла? Может, в столовой обедает по зимнему времени? Все может быть. Если бы хоть фамилию знать.
В следующее увольнение, в пятницу, он стоял у проходной, старательно вглядываясь в текущий широкий людской поток. Конец смены. От напряжения слезились глаза, и ветер швырял в лицо осеннюю слизень. Он прождал больше часа, стоял, когда уже давно все вышли. Он приезжал пять увольнений подряд, и видение вытекающей из узкой щели дверей людской реки, темной и мрачноватой, постепенно мелеющей и сужающейся, преследовало его по ночам.
В шестой раз — был крепкий стеклянный январский день — он неуверенно вычленил глазами из толпы худенькую стройную фигурку и чуть не вскрикнул от радости. Он ее узнал, а она не узнала, и, когда он пробился к ней, расталкивая руками идущих, и дернул сзади за руку, она подняла глаза с тревожным изумлением. Но это было только мгновение.
— Надо же! — удивилась Катя. — Это ты? Приняли, значит?
Не отвечая, он за руку вытянул ее из течения в сторону, не выпуская руки, довел до скверика.
— Посидим, Катя.
— Да что с тобой, — смеялась она. — Опять есть хочешь? У меня ничего нет. Приходи завтра, принесу.
— Я пять раз тебя встречал, Катя.
— Здесь?
— Где же еще. Я не знаю, где ты живешь.
— Так я же в центральную проходную обычно выхожу. Там мне ближе. Надо же, какой смешной… А тебе идет форма.
Тут он и высказался, не мешкая:
— Катя, я хочу, чтобы ты стала моей женой.
Мама моя, милая, нежная, гордая, певучая мама моя, как ты ответила? Ты не сказала, жеманясь: «Ах, мы так мало с вами знакомы»; ты не сказала: «Это так неожиданно, мне надо подумать»; ты не сказала: «Ой, мне надо купить к ужину картошки»; ты не смалодушничала, не покривила душой, не мучила отца; порозовев от мороза и смущения, ты покорно шепнула: «Я тоже очень хочу быть твоей женой».
Это любовь была. Самое то, чем жив человек. Прозрачная и глубокая, как воздух. Она не обманывает смелых и прекраснодушных.
Мама много раз (особенно часто после смерти отца) повторяла эту историю. «Хочу, чтобы ты стала моей женой!». «Очень хочу быть твоей женой!» Заводская девочка в сером шерстяном платке поверх тоненькой яркой косынки — и ослепительный, с холодеющими в щегольских сапожках ступнями курсант. Мои мать и отец. В скверике. Сто лет назад.
Мама говорила, что влюбилась в отца в ту же минуту, как увидела слезы на его спящем лице. В скверике.
Неужто и впрямь вас я никогда больше не увижу? Где вы оба, отец и мать? Вы реальны в моих снах, а в самой реальности вас нет. Хотел бы я встретить того, кто шутит над нами эти проклятые шутки.
Разбудил меня телефонный звонок. Мельком взглянув на часы — седьмой час, — поднял трубку.
— Алло, Семенов? — голос телефонистки ни с чьим другим не спутаешь.
— Да, слушаю.
— С вами будет говорить Москва.
Пятиминутная пауза, заполненная возбуждающими скрипами и шорохами эфира, и вот оно — благодушное покашливание Владлена Осиповича, дорогого шефа.
— Виктор Андреевич, ну как у тебя?
— Спасибо, Владлен Осипович. Немножко голова побаливает, боюсь, не застудился ли. Вчера на пляже загорал, с непривычки, знаете ли, мог переборщить.
— Виктор, учти, разговор междугородный — пятнадцать копеек за минуту.
— Так вы же по служебному звоните?
— Государство — это мы, товарищ Семенов. Давай, пожалуйста, без фанаберии, ближе к делу.
— Вам кто просигналил? Никорук?
Покашливание, треск, грозовые помехи. В любую минуту могу бросить трубку, а потом сослаться на неисправность линии. Это хорошо, отступление обеспечено.