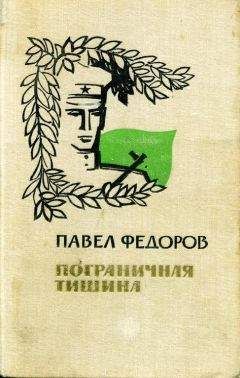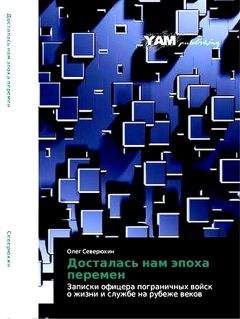Вечером, когда солнце утонуло в море, на тропинке около Орлиной скалы показался человек в белой тенниске с чемоданчиком в руках и с висевшим через плечо на ремне термосом. Он возник перед глазами Баландина так неожиданно, словно вынырнул из земли. Остановившись, он огляделся вокруг, поправил серую широкополую, свисавшую на уши панаму. Постояв немного, круто свернул с тропы и присел под кустом черноклена, как раз там, где почти на чистом месте была закопана радиостанция. Здесь была крошечная, густо окруженная кустарником плешинка, на ее краю рос приземистый ветвистый черноклен. Дальше шли сплошные заросли. Не спеша, будто присев отдохнуть, человек в панаме снял с плеча термос, поставил его рядом с чемоданчиком, взглянул на ручные часы, закурил. Затянувшись несколько раз подряд, он бросил недокуреиную сигаретку в кусты, торопливо прочистил мундштук, еще раз воровато огляделся и тихо вскрикнул голосом птицы. Через минуту в стороне раздался ответный крик — звонкий и резкий. Он сразу же замер в шелестящем порыве ветра. Крепко натянув на лоб панаму, человек вдруг встал на колени и начал снимать под кустом верхний слой дерна. Беспорядочно раскидав землю, он вытащил из ямы ящик с аппаратурой, небольшой чемодан и поставил их рядом с термосом.
Наблюдая за действиями нарушителя, пограничники замерли в ожидании приказа.
Где-то совсем близко вскрикнула сова и, тяжело взмахивая крыльями, пролетела над головой Баландина. Он лежал под приземистым чернокленом впереди всех и видел, как нарушитель копался в земле и вынимал какие-то ящики. Пролетевшая сова своими шумными крыльями вывела его из оцепенения, он не выдержал и, не дождавшись приказа, сам с яростью в голосе скомандовал:
— Руки вверх!
Подстегнутый неожиданным вскриком, нарушитель вскочил, резким и гибким движением схватил термос.
— Руки! — громче прежнего повторил Баландин и нажал спусковой крючок карабина.
Грохнул выстрел.
Еще не успел замереть раскатистый звук, как нарушитель, взмахнув термосом, швырнул его в кусты. Гулкий, тяжелый, ошеломляющий взрыв качнул деревья. Вырванный с корнями черноклен вместе с телом Баландина отбросило на тропу. Неподалеку в клубящейся пыли застонал Нестеров и еще кто-то. Тут же, в изуродованных кустах, корчилась, выла закиданная землей Гойда.
Лежа в вырытой им ямке, нарушитель хлестко бил по кустам из автоматического пистолета. На предложение Ромашкова бросить оружие ответил выстрелами.
Очередями из автоматов пограничники прижали его к земле. Им было приказано взять врага живым.
Пограничники подползали все ближе и ближе. Нарушитель, видя, как все плотнее и плотнее сжимается вокруг него смертельный круг, понял, что его хотят схватить живым. Стреляя наугад, он то вскакивал, то вновь ложился. Второй гранаты у него не оказалось. Вдруг после нескольких выстрелов он затих...
Видя безвыходность положения, нарушитель выстрелил себе в рот. Пользуясь завязавшейся перестрелкой, Сапангос сумел ускользнуть. Опытный, дерзкий, хорошо знающий местность, он, как змея, прополз через несколько цепей и только в последней, натолкнувшись на зазевавшегося молодого солдата, убил его в упор и ушел в горы.
Взрывом гранаты, замаскированной под термос, был убит Баландин. Сержант Нестеров и еще двое солдат оказались контуженными.
Вскоре на место стычки прибыл находившийся неподалеку генерал Никитин.
— Как же это все получилось? — выслушав доклад Маланьина, спросил Никитин.
— Выявили себя раньше времени, товарищ генерал.
— Кто это сделал?
— Говорят, что солдат Баландин не выдержал, крикнул и выстрелил. Он сам и погиб...
— Ну что ж, на мертвых вину валить не будем, — задумчиво проговорил Никитин. — Подполковник Маланьин, распорядитесь насчет похорон солдата. Он погиб на боевом посту. А то что не выдержал, виноваты и мы — плохо учили. А этого, — показав на труп диверсанта, продолжал Никитин, — сфотографировать, как в таких случаях положено, пленку быстро проявить и доставить мне. Вещи его отправить в штаб.
Настя прожила в Дубовиках одиннадцать дней. Отпуск заканчивался. Все это время она сильно скучала и даже несколько раз втихомолку всплакнула. И всему виной был капитан Ромашков. При той последней встрече она решила, что капитан считает ее просто глупенькой, легкомысленной девчонкой, способной строить глазки и лейтенанту Пыжикову, и чубатому рыбаку Васе. Но ведь для них она никогда не наряжалась в самые лучшие платья, не пела им своих задушевных песен, не прикалывала голубеньких бантиков, а просто ходила в зеленых спортивных брюках, со склянками в руках, смеялась, шутила, а перед ним так только играла словами, на самом же деле всегда робко опускала глаза. А он на нее — никакого внимания. Почему? Это больно задевало и тревожило девушку. Вспоминая последнюю встречу, Настя вспыхивала и краснела. Выставилась тогда в окошко, как дурочка, бантики нацепила, а разговаривала как? Трещала, требовала, чтобы ее проводили. Вот же глупая! Петя, тот, конечно, пошел бы, а что толку? Если бы этот строгий, нахмуренный капитан мог понять, что у нее на сердце, догадался бы, сколько она о нем думает! Что бы такое придумать, чтобы заставить его хоть немножко потосковать, как она тосковала эти дни в своих Дубовиках? Но теперь ее вдруг потянуло назад, к морю, поближе к заставе. «Приеду, обязательно встречусь в первый же день. Позвоню на заставу, там на заводе у коменданта есть отводная трубка, позвоню и спрошу, например, погоду... Сверю сводки. Они получают свои...»
А что будет дальше — она и сама еще не знала.
Накануне отъезда весь долгий день Настя не находила себе места, слонялась по хате из угла в угол. Пробовала заниматься с сестренкой Валей арифметикой, но была так рассеянна, что не могла вспомнить самые простые правила.
Валя задумчиво грызла карандашик и поначалу терпеливо ждала, когда домашний педагог перелистает весь задачник. Девочке это надоело. Закрыв тетрадь, она взяла из рук сестры свой учебник и решительно заявила:
— Я больше с тобой никогда не буду заниматься. Листаешь задачник и не видишь, що там написано... Только воображаешь, що можешь учить. За целый час мы только одну задачку решили. И вообще ты стала как кисель.
— Почему кисель? — насильно улыбнувшись, спросила Настя.
— Скучная какая-то. Вялая вся, аж сморщилась. Давай лучше пойдем за грибами. А? Последний раз... Хочешь?
— Мне, Валечка, что-то ничего не хочется.
— И за грибами даже?
— И за грибами даже...
— А вот я знаю, чего ты хочешь! — обрадовалась сестренка.
— Ничего ты не знаешь, ничего ты не разумеешь, — со вздохом ответила Настя.
— Тебе от нас уезжать не хочется. Да? Тебе вон его жалко...
— Кого?
— А вот его, Миколу нашего, — показала она на зыбку, где, посапывая носом, спал маленький братишка.
— Нет, дочка, у нее не та думка на уме, — сказала неслышно вошедшая Лукерья Филипповна, высокая, еще не старая, миловидная женщина, со смуглым, загорелым лицом.
Как всякая мать, она гордилась своей старшей, закончившей в городе техникум дочкой, любила ее и по-матерински чувствовала происходившую в ней душевную перемену. Пробовала откровенно с ней поговорить, но Настя только смущенно краснела, отмалчивалась, закрывалась, как улитка в коробочку, уходила и пела грустные песни.
— Какая же у меня думка, мама? — многозначительно спросила Настя.
— Наверное, замуж тебе хочется, вот и вся думка, — шутливо ответила мать.
— Ой, мама, скажешь тоже! — вспыхнула Настя.
— А то я не вижу!
— Что же вы такое видите?
— Вижу, ходишь сумная, будто у тебя зуб вырвали... А раз сумная — значит замуж пора.
— Ну что вы говорите, мама?
— Я знаю, что говорю.
— Замуж? — с удивлением протянула Валя и тут же деловым тоном заметила: — Да у ней и жениха-то нет...
— А ты почем знаешь? — спросила Лукерья Филипповна.
— Э-э! Был бы, так она б мне сказала. Она мне все говорит, — переплетая косичку, ответила Валя.
— Так и все? — лукаво прищурив глаза, спросила мать.
— А как же? Мы же с ней обе невесты, — не моргнув, ответила Валя.
— Ты только глянь на нее, на эту птаху! Про какие дела она толковать начинает, — засмеялась Лукерья Филипповна. — Ты поди-ка лучше да приведи из огорода телка, я скоро корову доить буду. Тоже мне невеста!
— Женщины все бывают невестами, — с самым серьезным видом сказала Валя и, тряхнув косичками, выбежала.
— Ты только подумай, яка скаженна растет девка? — всплеснув руками, проговорила Лукерья Филипповна. — Это, наверное, ты ее просвещаешь?
— Что вы, мама! Она такая смышленая, все своим носиком чует, — возразила Настя. — Хорошая у меня сестричка, да и братик тоже...