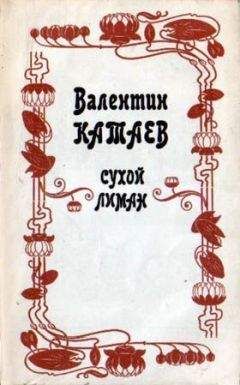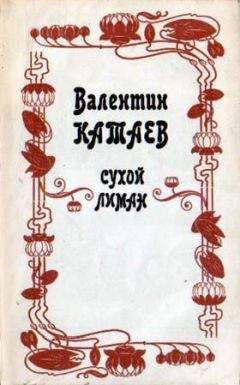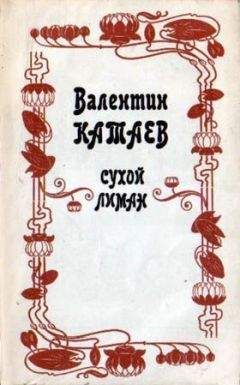Все это проделывается с чрезвычайно серьезным лицом, с видом собственного достоинства.
Немец-колонист Веварт сует палочку в шрапнельный стакан, где плавится алюминий. Палочка загорается.
— Колыхай, металл уже готов, — говорит Веварт на своем ломаном языке. — Белый, как мильх, как молоко, как сметан.
Колыхаев берет заранее приготовленные две палки, связанные вместе с одного конца телефонным шнуром, ухватывает ими раскаленный стакан.
— А ну тикай, тикай! — кричит он, устремляясь от костра к литейной форме. Палки на глазах обугливаются и дымятся. Колыхаев действует быстро, уверенно, сноровисто. Пока палки еще окончательно не загорелись, Колыхаев наклоняет шрапнельный стакан над формой, и тонкая струйка молочно-белой светящейся жидкости льется в желобок.
Готово!
Батарейцы окружают литейную форму и терпеливо ждут, когда металл остынет и настолько затвердеет, что готовую отлитую ложку можно будет вынуть из формы. Вскоре песок выбивают из ящика, в его сероватой горке поблескивает белая новорожденная ложка. Ее извлекают па свет божий. Она еще горяча, и Колыхаев любовно перебрасывает ее с ладони на ладонь. Полюбовавшись своим изделием, он присоединяет ее к другим еще не отшлифованным ложкам.
В стакан бросают обломки неудачно отлитых ложек, дистанционные трубки, разную алюминиевую мелочь, и все начинается снова.
Может быть, я неточно, бестолково и непонятно описал Вам, дорогая Миньона, процесс изготовления алюминиевых ложек, но, вероятно, я сам нечто вроде неудачно отлитой алюминиевой ложки и меня надо заново переплавить. Как Вы думаете?
Колыхаев так усердно старается потому, что ему хочется непременно сделать собственными руками ровно дюжину алюминиевых ложек, чтобы, когда поедет в отпуск, отвезти их в подарок своей жинке, о которой мы ничего толком не знаем, кроме того, что ее зовут Нина. Или, как он говорит, «моя дорогая супруга Ниночка». В свободное время он шлифует свою дюжину, доводя ее до блеска. Вот это называется любовь!
Остается одно — постараться остаться в живых, дождаться своей очереди и поехать домой на побывку, захватить заодно с дюжиной алюминиевых ложек также фунтов десять ржаных сухарей, насушенных из остатков хлебного пайка, и мешочек сэкономленного рафинада.
Солдатский телеграф сообщает, что у нас в тылу начинается голод.
…Но едва Колыхаев успел отлить очередную ложку, как из своего окопчика высовывается дежурный телефонист:
— Батарея, к бою!
И мирная картина вмиг меняется.
Вот Вам одна из подробностей нашего быта. Извините, прерываю письмо. Сейчас будем стрелять. Черт бы его побрал!.. Ну вот, слава богу, благополучно отстрелялись. Вы не думайте, что стрелять мы не любим. Стрелять мы любим, это наше постоянное занятие. Но, к сожалению, после каждой стрельбы полагается чистить дуло орудийного ствола, а это занятие тяжелое, хлопотливое, надоедливое, и мы его терпеть не можем.
Чистят орудийный ствол так называемым банником. Банник — это длиннющая круглая палка, состоящая из двух свинчивающихся половинок. В развинченном виде банник обычно прикреплен к лафету. Когда баннику надлежит идти на работу, обе половинки свинчивают и к концу одной из них еще привинчивается цилиндрической формы щеточка. Получается длинная палка с вращающейся щеткой на конце.
Опишу Вам процесс чистки дула орудийного ствола, который производится следующим образом, будь он проклят! Прежде всего ствол орудия приводится в строго горизонтальное положение, а затвор открывается. В самой чистке участвуют все восемь номеров орудийной прислуги под строгим наблюдением фейерверкера. Номера обносят банник вокруг пушки и останавливаются перед дулом. Фейерверкер поливает щетку банника керосином, и орудийцы, взявшись все вместе, осторожно вводят банник в канал ствола, что дело совсем не простое, так как щетка идет туго. Раз десять полагается провести банник туда и обратно из конца в конец канала ствола. А это не так-то легко.
Но это лишь начало!
После того как канал ствола прочищен как следует керосином, щетку обертывают чистой полотняной ветошкой, и снова начинается чистка — туда и обратно, — на этот раз для того, чтобы вытереть насухо от керосина. Тоже раз десять. Мускулы рук устают от напряжения.
Теперь канал ствола чист. Орудийный фейерверкер, зажмурив один глаз, заглядывает в ствол, как в подзорную трубу, внутри которого винтовая нарезка очищена до зеркального блеска.
Но тут появляется монументальная фигура фельдфебеля подпрапорщика Ткаченко. Он отстраняет величественным мановением руки орудийного фейерверкера и заглядывает сам, лично, в канал ствола своим хозяйским глазом. Не дай бог, если он обнаружит на зеркальной поверхности стали хоть одно пятнышко! Тогда процедура чистки начнется снова, а орудийному фейерверкеру — два наряда вне очереди! Однако бог миловал. Фельдфебель не имеет претензий и величественно удаляется, заложив руки за свой кожаный желтый пояс офицерского образца.
Однако это еще не все.
Теперь надлежит смазать канал ствола орудийным салом, которым обильно покрывают щетку, обернутую новой ветошкой, и наконец, как выражаются с досадой орудийные номера, — опять двадцать пять!
Короче говоря, чистка орудия продолжается часа полтора и повторяется каждый раз после стрельбы, даже если был произведен хотя бы один выстрел.
От чистоты канала ствола зависит точность стрельбы, которой мы особенно гордимся.
Зато потом, заглянув в ствол, я вижу витые зеркальные нарезы и маленький кружочек голубого неба с верхушкой елки.
Отбой!
Но так как батарее приходится стрелять по три, по четыре, даже по пять раз в день, то жизнь наша превращается в сплошную мучительную чистку орудий. Я думаю, что чистка орудий — самое ужасное следствие войны!
Ах дьявол!.. Простите… Прерываю письмо, так как опять зовут чистить орудие. Бегу, бегу. Ваш А. П.».
Я откладываю в сторону письмо и, вытирая платком утомленные чтением своего же молодого, неразборчивого почерка, слезящиеся, слабые глаза, вспоминаю свою жизнь на батарее.
…«Литейный завод» работал полным ходом не только у нас на позиции, но также и в резерве и на передках у ездовых. Была даже, помнится, установлена рыночная цена на алюминиевую ложку. Сорок копеек штука.
Куда ни посмотришь, всюду сидят солдаты и, согнувшись, шлифуют только что отлитые шершавые алюминиевые ложки наждачной бумагой.
Во время одного из очередных обстрелов немцами нашей батареи налетевшая бомба, как на грех, угодила прямо в «литейный заводик». После этого непрошеного визита «литейный цех» оказался на крыше землянки в другой батарее. Дровишки, приготовленные для костра, обращены в труху, а куча чудесного речного песка исчезла вообще, рассеялась от взрыва.
Наши батарейные ветряки говорили, что гермáн (то есть немец) нарочно из любезности пустил свой снаряд вместе с алюминиевой дистанционной трубкой прямо в стакан, чтобы не затруднять наших производителей ложек.
Солдаты изобрели еще один вид окопной промышленности. Они научились красить белую материю в защитный, зеленый цвет. Делалось это очень просто. В котле кипятится на костре вода, бросаются в нее болотная трава, крапива, березовые листья, лопухи и тому подобные «красящие вещества». Когда настой хорошенько уварится, приобретет темно-зеленый цвет, в котел бросают исподнюю бязевую рубаху и кипятят часа полтора. После этого рубаха оказывается окрашенной в отличный защитный цвет и превращается из нижней в верхнюю, в гимнастерку. По вечерам, если нет стрельбы, у нас музыка и танцы. Играют на гармонике, на скрипочке и… на лавровом листе, добытом у повара. На батарейной линейке у правого фланга на самодельной скамье, вбитой в землю, сидят трое солдат: гармонист Фока Терещенко, называющий себя почему-то Абдул Фарис из Батума, рябоватый парень с чересчур крупным носом, высокий, нескладный, как Петрушка или Ванька Рутютю уличного кукольного балаганчика, затем канонир Куликов, играющий на чрезвычайно маленькой, почти детской скрипочке, и еще некая неизвестная нам личность, солдат из резерва. Он засунул в рот лавровый лист и извлекает из него тонкие жалобные звуки, не совпадающие со слитными звуками гармоники и скрипки. Однако именно это несовпадение и создает какую-то необъяснимую прелесть мелодии.
Несовпадение… Да, именно несовпадение, подобное несовпадению моей странной, необъяснимой, вечной любви к Ганзе со всем окружающим меня миром, со всей моей жизнью отчаянное несовпадение. Но такова уж, видно, была моя судьба.
Звуки гармоники, скрипки и лаврового листа почему-то до слез напоминали мне Ганзю, которую я никак не мог себе представить, а только всей душой чувствовал, что она как-то незримо, бестелесно присутствует в мире.