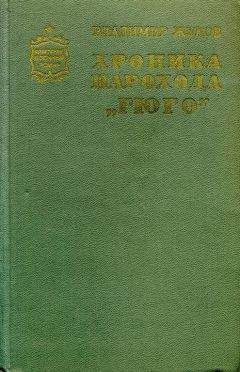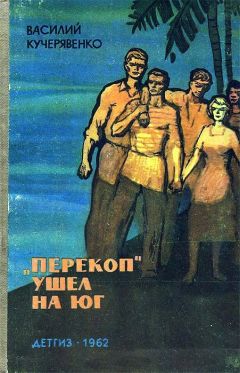Стали все замечать, что уж больно часто крутится Левашов возле Алферовой. В общем-то ничего особенного, матросы оба, и когда после второго рейса обратно пошли, из Такомы, то они на пару вахту стояли, «собаку», с нуля до четырех. К тому времени Левашова и Маторина уже на руль определили, обучились они. А на вахте два матроса положено, каждый вертит штурвал по часу. И, наверное, можно было бы признать случайностью, что Аля с Левашовым объединились в одной вахте — списки не они составляли, сам Реут. Но вот то, что Левашов стал частенько исчезать за дверями Алиной каюты, тут уж никакой случайности не ищи. Один раз может быть случайность. А если все лето и осень — тут уж прямой закон, точное правило.
Алевтина с ним ласкова и не скрывает того на людях. Правда, скрывать-то что: любой заметит, что это ласка сестры или друга. И мало Стрельчук обучал Левашова морскому делу по особой статье, так теперь она взялась. Вечером берут в штурманской рубке секстан и стоят на ботдеке, измеряют по очереди высоту луны или звезд. Довольные, прямо как ребята из мореходки на судовой практике.
Так и шло, пока однажды не застал Реут Алю в штурманской, когда подбирала она нужные для учебы справочники, и не сказал ей, что, мол, не слишком ли это — преподавать палубному ученику астрономию, когда тому еще надо заслужить право называться приличным матросом.
В точности слова старпома знал один Тягин. Он присутствовал при разговоре и сообщил о нем Огородову. Но главное было ясно: не нравятся старшему помощнику Алины с Левашовым занятия в отдельной каюте, так не нравятся, что он даже при третьем о них решил заговорить. И когда Алевтина положила справочники на место и сказала: «Хорошо, мы заменим астрономию такелажным делом, матросу оно необходимо», Реут, видно, еще сильнее растревожился, потому что ответил: «Вам, между прочим, не мешало бы отдыхать после работы. Такелажному делу научит боцман».
Как действовала потом самодеятельная Алина «мореходка», Огородову во всех подробностях установить не удалось. Он и решил проверить, что думает по этому поводу Оцеп, главный задира на пароходе. А тот:
— Э, старина, не углядел!
— Ладно, сдаюсь... Одного в толк не возьму, как это чиф терпит?
— Ничего он не терпит. Он их вместе теперь на вахту не ставит и выходные порознь дает.
И ведь точно! Алферова с Левашовым вместе вахту стояли всего один рейс, веселые такие из рулевой вниз спускались: мы-де всех сегодня на полторы мили обставили. Они, значит, так старались выдерживать курс, что за их вахту судно большее расстояние проходило. Алферовой, конечно, затея. Еще приговаривала: «Вот что значит королевские матросы!» Она, значит, и Левашов королевские, а остальные так, на черный хлеб зарабатывают. Но потом прекратилось, Левашов с кем-нибудь другим вахту стоял. А попозже старпом его совсем от этой должности отставил, вернул обратно в подчиненные Стрельчуку. И на берег — правильно Оцеп напомнил — не видно, чтобы они вместе с Алей уходили, а это опять-таки регулировать мог только Реут.
Так и шло время. «Гюго» возит грузы через океан, а команда занимается своими делами: кто пар в котлах держит, кто машину маслом поливает, кто штурвал крутит, а кто и обед, ужин варит — тоже дело необходимое.
Один из рейсов привел на Камчатку, в Петропавловск. Стояли на рейде в Авачинской губе, ждали разгрузки. На сопках снег лежал, а на воде — лед, не такой, чтобы требовался ледокол, но приличный, довольно крепкий. И ветром все тянуло из дальнего угла бухты. Неуютно на палубе, зябко, но Огородов все же решил прогуляться. Смотрит, Щербина устроился в закутке, за лебедкой, и на конце толстенного троса делает петлю, заплетает проволочные пряди.
— Привет, — сказал Огородов. — Куда такую громадину готовишь?
— Да вот старпом велел стропы мастерить. Может, тяжеловесы выгружать будем.
— Сами, без грузчиков?
— Может, и сами, — сказал Щербина.
— Деньжат, значит, подзаработаете, — сказал Огородов. — По закону, если команда сама выгружает, ей рублики с каждой тонны положены. Сверх зарплаты.
Щербина вскинул черные глаза на электрика.
— Что-то ты, старик, уж больно ко мне внимательный. То все с Лизаветой приставал, а то вдруг о заработке моем заботишься. Какой тебе прок от таких хлопот?
И на что бойкий у Огородова язык, а тут осекся. Действительно, подумал, что ему Щербина? А тот:
— Молчишь! Стыдно стало, что глупость про деньги сморозил.
Вот он как, морская пехота, вопрос повернул. И снова электрик не знал, что ответить.
На счастье, объявился Левашов, стал просить, чтобы Андрей принял его в свою бригаду — разгружать тяжеловесы. Только и ему вышло в ответ несладкое: «Боцман назначит кого надо». И еще: «Свободное время у тебя, Серега, другим занято».
Помолчали — кто в неловкости, кто в обиде — и разошлись. И все бы ничего, да только через день Огородов узнал, что Реут арестовал Левашова. А так как карцера на пароходе не имелось, то парня заперли в кладовку на юте, где военная команда обычно хранила свои овчинные тулупы, — караул на мостике и у трапа нести.
ЛЕВАШОВ
Когда мы пришли в Авачинскую губу, я взял с полки в штурманской лоцию. Просто так. Нравятся мне эти толстые в красных обложках книги, путеводители по морям. И странно, ничего там не обнаружил про ветер, про то, что со стороны Авачи, вулкана, он может с такой силой давить на ледяные поля в губе. Что грунт слабый, илистый, нашел. Да и третий помощник сказал, чтобы я за якорями смотрел, когда на вахту заступал.
Одним словом, никакой опасности не предвиделось. Я потолкался на палубе, подмел в коридорах, пока было светло, постоял у борта, посмотрел на поросший кустарником Сигнальный мыс, на дома Петропавловска, рядами расставленные по склону сопки, и на дымок Авачи — там, в дальнем краю губы.
Уже на самом закате облака разошлись. Низкое солнце, казалось, не грело, а, наоборот, излучало холод на белые равнины льда, на пароходы, замершие тут и там. Пора было идти зажигать рейдовый огонь.
На баке я первым делом подошел к брашпилю. От него, зажатые стопорами, тянулись в овальные ноздри клюзов тяжелые якорные цепи. Сам не знаю зачем, я несколько раз пнул их ногой. Якоря держали.
Я и потом все ходил на бак, и лишь когда, по моим расчетам, получилось, что я торчал на палубе довольно долго, отправился в надстройку. Имел полное право обогреться.
В каюте Олег и Надя сидели на скамейке возле столика и беседовали — вот только, как всегда, не поймешь о чем. Он ей доказывает, а она ему, и его рука тянется к ней, и ее ладошка звонко бьет по этой руке, и они смеются и снова принимаются что-то доказывать, а что — не понять. Я вошел, и они уважительно посмотрели на меня, рабочего человека, в шапке, меховой куртке и сапогах, и потеснились, пока я откалывал ножом, кусок от толстенной плитки шоколада с выдавленной сверху надписью: «Вашингтон».
Кусок отломился здоровый, с кулак величиной, даже буква на нем уместилась — «а». Первую букву, латинское «дубль ве», я съел раньше и теперь подумал, что мне еще долго есть плитку, — много букв осталось; да и не сладкий он, шоколад, говорили, у американцев летчикам предназначен на случай аварии.
Хотел еще зайти в красный уголок, взглянуть на доминошников, но подумал, что и без того я давно торчу в надстройке и там, на палубе, где мне положено находиться, могло что-нибудь произойти.
На палубе, однако, было все так же тихо. Смутно серел лед, подслеповато мигали огни, и только на лице, как что-то новое, чувствовался морозный ветер.
В поле зрения попала ванта, толстый, стальной трос, наклонно уходивший в темноту, к верхушке бизань-мачты. Ей, ванте, было положено, как и всему на судне, оставаться неподвижной, но она почему-то скользила вбок. «Якоря!» — испугала догадка.
Я кинулся на бак. Перед глазами прыгали, кривились стенки ящиков, тугие тросы креплений, под которыми я пролезал, увесистые тумбы кнехтов, о которые я спотыкался.
Куртка зацепилась за гвоздь, парусина, покрывавшая мех, с треском лопнула, но я и не остановился, бежал и бежал с колотящимся сердцем, с ужасом ожидая встречи с якорными цепями.
Ржавые звенья выглядели по-прежнему, но за бортом лед уже не казался серым, он победно белел и сверкал. Возле форштевня, у начала ватерлинии, наросла грудка из битых льдин.
Теперь стало окончательно ясно: ветер, набрав силу где-то там, у Авачинского вулкана, оторвал километровое ледяное поле и потащил, точно гигантский плот. «Гюго» под натиском его не мог устоять, якоря вырвало из грунта, пароход медленно двинулся к фарватеру, ведущему в порт, к тому месту, где поджидали разгрузки еще три судна — два лесовоза и низкий, видно, с полным грузом танкер, ближайший на этом предательском пути.
Не помню, как я оказался у каюты третьего.