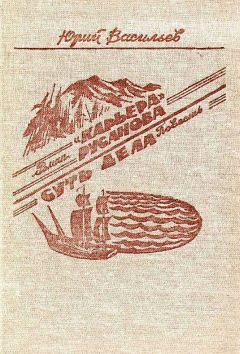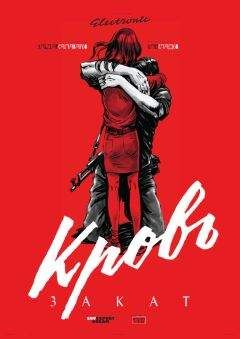«Барахолка, — подумал Геннадий. — Нет, не знаю… В такой комнате может жить кто угодно. Званцев тоже жил среди книг…» И вдруг он увидел в самом дальнем углу стеллажа маленькую деревянную бригантину. Она была сделана неуклюже, грубо, но как-то по-особенному, ухарски, словно бы мастер, делавший ее, подмигивал при этом самому себе. Рядом с бригантиной на стене было написано: «Держать на освещенное окно господина Флобера».
— Что это? — спросил Геннадий, когда Шлендер вернулся. — И почему… Флобера?
— Так было написано в старых лоциях, Гена… Дело в том, что Флобер жил в Марселе, в небольшом домике, который стоял на скалистом обрыве возле самого моря и был виден издалека. Флобер работал по ночам, работал, как тебе известно, много, и моряки знали, что скорее рухнет маяк, чем погаснет его окно. Вот так… «Держать на освещенное окно господина Флобера», — говорили моряки. Я думаю, многим из нас надо держать на это окно.
Он сел, разлил чай. Неожиданно рассмеялся.
— Ты посмотри, что у меня на руке? Видишь? Якорь… А в море был всего один раз, да и то лучше не вспоминать… Всю жизнь меня тянуло к черту на кулички, куда-нибудь на Гаваи, под Южный Крест или хотя бы на Фудзияму посмотреть собственными глазами, а получилось так, что двадцать лет сижу на одном месте, вырезаю аппендициты и ставлю клизмы… Между прочим, эту бригантину мне подарил мой друг двадцать пять лет назад. У него в то время, кроме якоря на руке, вся грудь была в морских сюжетах… Собирался затмить адмирала Нельсона. Сейчас он директор совхоза, выращивает свиней.
«Если это притча, то я ни черта не понял, — подумал Геннадий. — Все равно, люблю сумасшедших… Таких вот романтиков, которые всю жизнь носят теплые подштанники и мечтают о Северном полюсе… Но не важно. Лучше ты меня все-таки спроси, зачем я пришел. Ну, спроси же… Не делай вид, что это в порядке вещей — приходить в дом к не очень-то, в общем, знакомому человеку, да еще в одиннадцатом часу, и сидеть, распивать чаи…»
— Ездил устраиваться на работу, — сказал Геннадий.
— Ну и как?
— Лучше не придумаешь. Познакомился с неким Герасимом Княжанским, бригадиром автобазы. Приглашает к себе. Обещает хоть завтра дать новую «Татру». Это не часто бывает. Между прочим, вы ведь его знаете.
— Знаю, — кивнул Шлендер. — Очень дельный парень. Да и все там хлопцы неплохие. Тебе бы подошло… Но я не понимаю одного — какое ты имеешь ко всему этому отношение? Ты ведь не шофер?
— Я шофер, Аркадий Семенович. Очень хороший шофер, поверьте мне. Второй класс, а лучше сказать — первый. Не успел пройти переаттестацию, потому что в прошлом году меня лишили прав. Совсем лишили. За систематическое пьянство при исполнении служебных обязанностей. Вот какой винегрет.
— Крепко, — хмыкнул Шлендер. — Значит, ничего у тебя не получится с Герасимом?
— Надо, чтобы получилось.
— А как? Это возможно?
— Вполне возможно. Людей неисправимых нет. Так ведь? Это и в ГАИ знают, и вообще такова постановка вопроса в нашей советской системе воспитания… Вы депутат областного Совета. Если вы очень захотите, если вы скажете в ГАИ, что вот, мол, такое дело, шофер Русанов нуждается в снисхождении…
— Ты думаешь, я скажу?
— Уверен, Аркадий Семенович. Иначе бы я не пришел… Правда, перед этим вы, возможно, скажете мне что-нибудь вроде того, что ты, мол, представляешь себе, Геннадий, какую я беру на себя ответственность? И далее в таком духе. Но я не обижусь, честное слово, Аркадий Семенович, не обижусь, вы ведь действительно берете на себя ответственность.
— Ну-ну! — Шлендер даже поморщился. — А еще что?
— Да вот, собственно, и все… Разве поделиться с вами некоторыми наблюдениями? Я, например, заметил, что делающие добро питают к своим подопечным самый большой интерес. Скажем, вытащили вы человека из проруби и ему же благодарны, что он вас на хорошее дело подвигнул. Понимаете?
— Ну, артист! — рассмеялся Шлендер. — Ты знаешь, я вот смотрю на тебя и думаю — что это? Наглость или простодушие?
— Это обаяние, Аркадий Семенович. Хорошо отрепетированное обаяние. Я по дороге тщательно взвесил каждое слово и примерно знал, как вы будете реагировать. Я даже знал, что вы мне скажете: «Что это? Наглость или простодушие?» — и придумал ответ — это обаяние…
— Врешь ты все, — снова рассмеялся Шлендер.
— Вру, конечно. Но ведь складно, правда?
— Правда, Гена…
Он достал из ящика коробку с табаком и принялся сворачивать самокрутку. Табак был темный, с едким запахом.
— Заморский? — улыбнулся Геннадий. — С видом на Фудзияму?
— А как же! Самый что ни на есть, из города Тамбова. Не желаешь отведать?
— С удовольствием!
Они закурили, укутались дымом.
— Теперь слушай меня внимательно, Гена. Веселый разговор оставим на потом, сейчас будем говорить, как на совещании. Сделать что-нибудь мне представляется очень трудным… Кроме того, ни о каком снисхождении к шоферу Русанову, видимо, не следует говорить. Знаешь почему? Потому что ты должен работать и жить на полную катушку, ходить широко развернув плечи, без всякого снисхождения и намеков. Чтобы никто не мог сказать — это тот самый Русанов, который… Никто не должен знать, что тебя нашли полуживого у какой-то шлюхи, не должен знать, что ты… ну, закладывал, в общем, что у тебя было какое-то прошлое. Его нет для тебя, насколько я понимаю, а значит — не должно быть вообще. Я все верно говорю?
«Какая ты умница, — думал Геннадий. — Не ожидал… Нет, ты, должно быть, и в самом деле очень хороший старый романтик из-под Южного Креста».
— А теперь подумаем, как это сделать. Я, конечно, не буду тебе напоминать, что оба мы идем на… Ну, мягко говоря, на нарушение… Так вот. У тебя есть какие-нибудь мысли?
— Нет, — откровенно признался Геннадий. — Ни малейших… То есть при новой постановке вопроса. Я думал, что если как-то попросить, чтобы меня… Ну, испытали еще раз, что ли?
— Ладно, утро вечера мудренее. Вот тебе диван, вот тебе подушка, одеяла у меня лишнего нет, укроешься плащом. И спать. Уже светает…
Утром события стали развиваться с пугающей быстротой. Аркадий Семенович не был дома часа полтора, затем он вернулся и сказал, что, кажется, все в порядке. Геннадий быстро сфотографировался. Потом Шлендер провел его через три кабинета, где его столь же быстро постукали молотком пониже колена, заставили одним глазом прочитать аршинные буквы и признали годным хоть для полета на Луну. После этого Аркадий Семенович соизволил дать ему более подробную информацию.
— Дело обстоит так. В четыре часа ты будешь сдавать экзамены. Все строго по закону, и все — чистейшей воды блат. Должен тебя предупредить об одной неприятной подробности. Автоинспектор Самохин — это как раз тот самый прохожий, который тебя в свое время подобрал, он сейчас в командировке, и поэтому надо спешить. Мужик Самохин дрянной, крикливый, и я не уверен, что он не поднимет шум. Хочу, однако, тебе сказать, что экзамены будут по всей строгости.
— Понимаю. Экзамены я сдам.
— Ну и молодец… Иди поешь, пока столовая открыта, а в четыре прямо в ГАИ. И запомни — ты совершенно спокоен.
«Спокоен-то я спокоен, — подумал Геннадий, — а вот поесть бы действительно не мешало. Только на какие гроши? Последний трояк оставил у фотографа… А у Шлендера денег просить не стану. Не смогу… Как быть? Теленок, гимназистка, простофиля — обзывай себя как хочешь, но денег просить не смогу, а явиться в таком виде к Герасиму — тоже не дело. Сразу видно, что за птица прилетела… Где же твое барахло, которое ты у товарища оставил?.. А есть хочется — ну прямо хоть локти кусай! Вот беда, ей-богу, сколько забот у трезвого человека… Пожелай я сейчас выпить — и через час в какой-нибудь забегаловке добрая братия напоит меня до бесчувствия, а вот пожрать — это хуже».
Геннадий порылся в карманах, нашел двугривенный. Потом еще. Это уже деньги. Купил хлеба и сжевал его прямо возле магазина. Очень мило! Черный хлеб плюс соленый привкус романтики…
Экзамены прошли на редкость гладко. Геннадий сперва немного волновался, потому что в последние годы всякое общение с ГАИ ничем хорошим для него, как правило, не кончалось. Но капитан Макотрик встретил его приветливо и даже, как показалось Геннадию, с некоторым любопытством. Памятуя просьбу своего приятеля доктора Шлендера — проэкзаменовать Русанова со всей надлежащей строгостью, он усадил его за руль и два часа гонял по дороге, от которой у обоих вскоре сделалось головокружение. Макотрик был старый волк, и ему было достаточно. Для очистки совести он еще немного поколдовал с Русановым над макетом, заставлял его выкручиваться из самых сложных положений, потом подписал какие-то бумажки, сунул их в стол и сказал: