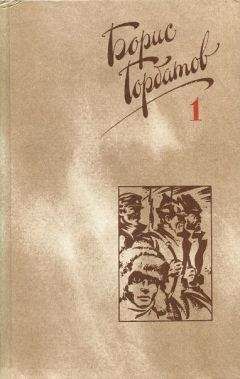Смеясь, заглянул в нее и подумал:
«Неужели я старик?»
Он перелистал страницы:
«Выступаем на Богодухов». «Должен Марченко три пачки махорки». «Утром хоронили Васю. Он пал как герой. Дай бог каждому такую смерть». «Выступаем из Богодухова ночью».
«Сколько лет Юльке? — подумал он вдруг. — Пятнадцать. А мне — двадцать четыре. Всего девять лет разницы. Когда ей будет двадцать четыре, неужели она будет такая старая, как я? Нет, конечно, нипочем не будет. Ведь она не воевала».
Он записал в книжечку:
«Сегодня познакомился с человеком, которому пятнадцать лет и у которого длинная коса».
«У каждого поколения своя судьба, — думал он, перечитывая записи. — Наверно, физика доказывает это законами. Физика? Это которая о свете и звуке? Школьники будут смеяться надо мною, когда я начну с ними говорить о физике. На кой черт я пошел работать в школу? У каждого поколения в конце концов есть своя судьба».
Демобилизуясь из армии, он долго думал, куда ехать. На завод? Костыли не пускают. Домой, в деревню? Зачем? Могилкам кланяться? Пусть цветет над ними горькая могильная трава, — Рябинину некогда.
— Уезжай на юг! — сказали ребята. — Подлечишься. Отдохнешь.
Поехал. До юга не дополз. Здесь, в городке, в тифу свалился. Сняли с поезда. Сдали в лазарет. Валялся в военном госпитале. Выкарабкался из тифа, встал неуверенно на ноги, слабыми пальцами схватил костыли, вышел на улицу, вдохнул воздух, легкий, морозный. Голова помутилась, чуть не упал.
«Слаб!»
Пришел в горком партии.
— Не поеду пока на юг. Дайте работу здесь.
Его направили к секретарю горкома. Фамилия секретаря была Марченко; Рябинин обрадовался: уж не взводный ли это? Марченко? Вот была бы встреча!
Но секретарь оказался другим Марченко. Это был старый седовласый, широкоплечий человек с синими рябинами на лбу и щеках, в прошлом — шахтер-подпольщик. Он принял Степана Рябинина с той суровой простотой, к которой так привык Степан в партийных комитетах и которую он больше всего любил. Первое, о чем спросил его Марченко, было: как здоровье?
— Я здоров, — нетерпеливо ответил Рябинин.
Но секретарь, словно не расслышав, продолжал подробно расспрашивать его, куда он был ранен, и не болит ли рана, и давно ль он из больницы, что говорят врачи, есть ли Степану где жить, есть ли у него деньги…
— Жить будешь в коммуне… — сказал секретарь. — Так у нас вся холостежь живет.
— А работать?
— Работать? — в первый раз за все время беседы улыбнулся секретарь. — Работы, голубок, много! До дьявола работы, а людей — мало. А сколько тебе лет, товарищ? — вдруг спросил он.
— Двадцать четыре.
— В комсомоле работал?
— Приходилось.
— Ну вот и отлично! Нам как раз нужны надежные ребята для работы в комсомоле, — и он пытливо посмотрел на Рябинина.
Он угадал: Рябинину не хотелось идти на комсомольскую работу. Степану представлялось, что он уже вырос из нее, что он — «стар», но сейчас, рядом с Марченко, он вдруг сам себе показался совсем желторотым птенцом; он смутился и ничего не сказал в ответ на предложение секретаря.
А тот еще раз внимательно посмотрел прямо в глаза парню и затем очень тепло и даже как-то задушевно сказал, кладя руку на плечо:
— Ничего, ничего! Я, голубок, тебе почетное дело предлагаю. Комсомол, брат, наша самая дорогая смена. Мы за нее перед будущим в ответе. Так-то! — Он отошел обратно к столу, взял кисет и стал набивать табаком трубку. — Мало, голубок, мало еще у нас людей!.. — продолжал он все тем же задушевным тоном. — Власть мы молодая, кадров еще не накопили. А куда только не приходится сейчас ставить коммунистов! И на хозяйство, и на транспорт, и в банки, и в юстицию… Везде, голубок, партийный глаз нужен. Поскорей бы вы подрастали, что ли!.. — вдруг рассмеялся он.
— Хорошо! — сказал, вставая, Рябинин. — Как партия велит. Я согласен.
— А я так и думал. Я, брат, так и думал. Ну, теперь слушай сюда, — сказал он прежним, суровым тоном, садясь за стол. — Пойдешь в горком комсомола к товарищу Кружану. Скажешь, что я тебя послал. Да только, гляди, не поссорься с ним на первой же встрече. Кружан у нас парень занозистый. Ты, кстати, и присмотрись к нему. Понял? А потом горкому партии доложишь…
— В каком же я качестве иду в горкомол? — растерянно спросил Рябинин.
— В каком качестве? — прищурился Марченко. — А в качестве партядра… В качестве комсомольца и коммуниста. Тебя что, чины волнуют?
— Да нет!..
— Ну, то-то! А там, голубок, на работе выяснится, кто какого качества. Понял?
— Понял.
— А окончательно выздоровеешь, костыли отбросишь, поправишься и опять заходи ко мне. Непременно. Понял?
— Понял, — рассмеялся Рябинин.
— Ну вот! — лукаво улыбнулся и Марченко.
Они тепло простились, и Рябинин весело пошел в горком комсомола.
Здесь его ждала совсем другая встреча.
Секретарь горкома комсомола Глеб Кружан насмешливо посмотрел на костыли.
— Фронтовичок! — сказал он усмехаясь. — С какого фронта?
— Со всех! — отрезал Рябинин, хотя это и было похоже на правду: он дрался почти на всех.
— А что же ты делать умеешь?
Рябинин сдержался, ничего не ответил, выбросил только документы на стол: вот я, весь тут.
— Мы тебя в школу пошлем, — сказал, все так же усмехаясь, Кружан. — Сейчас на школьном фронте нужны бойцы.
Рябинин видел: смеется над ним Кружан, а не мог понять — зачем? Развалясь на столах, на скамейках, даже на полу, сидели в комитете комсомольцы. Может быть, он для них спектакль устраивает?
— Ладно! — сказал тогда Рябинин. — Пойду в школу, раз ты говоришь — нужны бойцы.
Он увидел: смутился, вспыхнул Кружан. Но отступать уже было поздно.
Так Рябинин попал в школу.
Он шел сюда и думал:
«Побуду здесь месяца три, с Кружана спесь собью, нога заживет, костыли к черту, ноги на плечи — на завод или в партшколу».
Посмеиваясь над собой, он пришел в школу. Ему было неловко: большой, взрослый, небритый парень будет возиться с малышами.
Посмеиваясь, он пришел на собрание детской ячейки.
«Взрослых копируют… Собрание. Наверно, у секретаря большущая папка есть».
Он вспомнил себя, каким был в восемнадцатом году: инструктор волостного комсомола, дядькина шапка, папка большая и мандат на весь лист: «Просьба оказать содействие».
«Возвертаемся в первобытное состояние, товарищ Степа. После героических фронтов повертаем мы с тобой на школьный фронт, как выражается товарищ Кружан».
И все-таки решил:
«Буду, буду ходить в школу, с ребятами сойдусь. Просто посмотрю, что у нас за народ растет! Они потешные в этом возрасте».
Он вдруг вспоминает ссору, свидетелем которой был. Он видел, что была не просто ребячья ссора. Он запомнил бледное лицо Гайдаша. Он слышал, как тот кричал кому-то: «Я убью тебя, офицерское отродье!» Настоящая злоба звенела в этом крике. «Что же дальше будет делать Гайдаш? А тот, кого обозвали офицерским отродьем?»
Рябинин вдруг ловит себя на том, что с любопытством и интересом думает о ребячьих делах.
«А что же? — оправдывается он перед собой. — Товарищ Марченко не зря говорил: мы за это перед будущим в ответе!»
2
Теперь Алеша ходил, остро выпятив локти и высоко вздернув голову. Свой козлиный кожушок он туго перепоясывал солдатским ремнем, сапоги подбил железными подковками, — ему казалось, что он сильнее и смелее всех в школе. Сзади, как тень, ходил за ним темный, угрюмый, большерукий Ковбыш, благодарно и молча помнивший, как Алексей первым ушел из класса, заступаясь за него, за Ковбыша.
Вдвоем они бродили теперь по коридорам («гроза морей», как прозвала их насмешливая школьная вольница). Алексей шел вразвалку, с небрежным ухарством, а Ковбыш, упрятав голову в широкие плечи, тяжело ступал сзади него.
— Пускай судят! — хвастливо кричал Алеша в коридорах, а у самого сердце сжималось в страхе: вытащат его на сцену, вся школа будет смотреть, смеяться.
Упрямое скуластое лицо его вспыхивало. Хотелось бросить школу, ученье — и бежать, бежать на край света, но он упрямо посещал уроки и из гордости и все из того же упрямства отлично готовился к урокам и, к удивлению учителей, шел в голове класса.
— Способный, способный! — сказал ему как-то, раздумчиво и глядя мимо него, учитель физики Болдырев. — А жаль: хулиган.
Алеше стало стыдно. Опустив голову, он побрел по коридору и столкнулся с Воробейчиком.
Тот испуганно шарахнулся в сторону и, когда Алексей прошел мимо, закричал тонко и насмешливо:
— А тебе скоро суд!
«Суд… суд…» — отдалось в гулком коридоре.
Хуже всего было то, что «они» кругом правы, а он кругом виноват. Затеял ссору кто? Он! Факт. Побил Воробейчика кто? Он! Факт. Не подчиняется старостату кто? Он! Опять же факт.
Все факты против него. Подумать только: ячейка считает его врагом! Его — Алешу! — врагом, а Ковалева кем же тогда: другом?