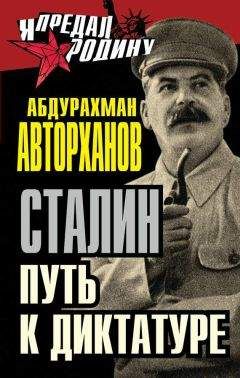Как только к профессору являлся кто-нибудь из его учеников, я, если чувствовал себя сносно, удалялся в комнату отдыха играть в домино или читать книгу — и возвращался в палату лишь после того, как посетители уходили от профессора. Абузар Гиреевич лежал обычно, положив руки под голову и полузакрыв глаза. Думая, что он устал и, возможно, дремлет, я ступал на цыпочках. Однако профессор тут же открывал глаза.
— Ушли мои мучители! — Он говорил это шутливо и как-то по-особенному располагающе улыбался. Ясно было: «мучители» явятся и завтра, он примет их с таким же радушием, как и принимал сегодня. Он радовался за них. гордился ими.
Мы постепенно подружились.
Абузар Гиреевич стал разговаривать со мной охотно, свободней. Я узнал, что этот человек обладает широкими познаниями не только в медицине, но и хорошо осведомлен в литературе, в искусстве, в истории. Сейчас могу сказать без преувеличения: Абузар Гиреевич олицетворял собою целую эпоху в жизни и развитии татарской интеллигенции. Именно так! Профессор Тагиров — один из первых врачей, вышедших из среды татарского народа. Один из первых!.. Сейчас, когда татарская молодежь выдвигает из своей среды сотни и тысячи знатоков в самых различных и сложных областях науки, слова «один из первых» звучат как-то странно, почти парадоксально. Однако они вполне уместны в данном случае…
Абузар Гиреевич окончил медицинский факультет Казанского университета в 1911 году. Если мерить на аршин истории, с тех пор прошло не так уж много времени. А нам это кажется седой стариной. Он лечил народного поэта Габдуллу Тукая, знал Фатыха Амирхана, принимал участие в любительских спектаклях, влиявших на развитие профессионального татарского театра, был близко знаком с первым татарским большевиком-искровцем Хусаином Ямашевым и известным революционером Гафуром Кулахметовым!.. Да мало ли кого знал он и мало ли что делал!
Беседы с Абузаром Гиреевичем доставляли мне истинное наслаждение. Положив руки под голову, устремив взгляд куда-то вдаль, он говорит, говорит, иногда чуть усмехаясь в короткие белые усы. Если он не держит руки под головой, то в разговоре делает резкие движения указательным пальцем, будто подчеркивая свои слова. Несмотря на то что он уже давно лежит в больнице, на лице его нет следов болезненной желтизны. Конечно, лицо все же усталое, но без единой морщины. И седина тоже не старит профессора.
Иногда он рассказывал что-нибудь забавное, и я смеялся.
— Нет, вы не умеете смеяться! — вдруг ошарашил меня профессор. — Страсти нет в вашем смехе, боитесь дать волю своим чувствам. Не бойтесь, настоящий смех приносит организму внезапный отдых, облегчает, дает хорошую зарядку.
Я уже и до этого обратил внимание на детски чистый, беззаботный смех Абузара Гиреевича. Раньше я считал это непроизвольной чертой жизнерадостного характера профессора, но оказалось — в этом был особый смысл, возможно, даже выработанная привычка, с годами перешедшая в органическую потребность. Признаться, мне стало завидно, что не умею так свободно, от души смеяться. Меня с малых лет — ив доме и в школе — приучали быть серьезным, не смеяться по пустякам. Никому тогда не приходило в голову, что надо вырабатывать в себе умение отдыхать, в том числе… при помощи смеха.
…Ну вот, сегодня последний день старого года. В половине двенадцатого ночи я обошел палаты и поздравил от себя и от имени Абузара Гиреевича всех наших бодрствующих друзей и знакомых по больнице. Затем, вернувшись в наш «Сахалин», передал профессору ответные поздравления. Он поблагодарил. Но лежал грустный и задумчивый. Попросил меня еще об одном одолжении — позвонить к нему домой, поздравить от его имени Мадину-ханум и Фатихаттай. Я тут же исполнил его просьбу. Когда я передавал ему ответные поздравления и пожелания, лицо Абузара Гиреевича засияло от радости. Он оживился, стал разговорчив.
Я включил радио. Вот начали бить кремлевские куранты. Я наполнил стаканы ижевской водой. Оба мы сидели молча. Я ударял себя кулаком по колену и отсчитывал бой часов: раз, два, три… Двенадцать! И мы чокаемся стаканами, поздравляем друг друга с Новым годом, желаем здоровья, счастья, успехов в труде… Затем я гашу свет. Но вскоре в темноте слышу голос Абузара Гиреевича:
— Вы не спите?
Я ответил:
— Разве в новогоднюю ночь заснешь так скоро!
И вдруг Абузар Гиреевич заговорил…о Тукае! Я необычайно обрадовался этому, навострил слух.
— Когда я вспоминаю Габдуллу Тукая, — говорил профессор, — мне прежде всего представляются его глаза. Большие, черные, горячие, умные глаза поэта. Уже полвека прошло с тех пор, как я встречался с Тукаем, и до сих пор, из глубины десятилетий, мне будто светят яркие звездочки. Вы поймите одно: я пришел к Тукаю не как к великому поэту — в то время я слабо знал его стихи, — пришел как к обычному больному. Это было в одном из тесных номеров Булгарской гостиницы, на втором этаже. Я пробыл у него первый раз самое большее двадцать минут. После этого были еще встречи. И если я, человек отнюдь не близкий к поэзии, все же до сих пор не забыл, как сияли глаза Тукая, вам должно быть ясно, сколько в них было чувства и вдохновения!.. Но исхудавшее лицо поэта было печальным, сосредоточенным…
Немного помолчав, профессор поправился:
— Если сказать точнее — в этой печали была особая одухотворенность. Лицо привлекало благородством и умом. Наши художники и скульпторы еще не создали истинный портрет Тукая. Они почему-то стараются придать великому поэту почти отроческий вид да еще какую-то наивность. Между тем Тукай, невзирая на свою молодость, был зрелым, образованным и удивительно мудрым человеком. Это был подлинный мыслитель, властелин дум народных. Именно таким предстает Тукай в своих стихах, таков он был и в жизни, таким должен остаться в памяти народа…
Вспоминая о Тукае, Абузар Гиреевич невольно заговорил и о виднейшем татарском большевике Хусаине Ямашеве, которого поэт высоко ценил.
— Ямашев… это был умнейший и обаятельный человек. Я знал его ближе, чем Тукая. Мы даже были связаны дальним родством. Наши семьи издавна общались друг с другом. Широко известный теперь портрет его сохранился именно в нашем семейном архиве. Мы подарили его Академии наук. У Хусаина была очень красивая улыбка. Все буквально любовались им… Знал я и другого пламенного революционера — Гафура Кулахметова. Они с Хусаином были друзьями. Часто приходили к нам вместе. Несколько раз мы общей компанией бывали у кого-то в гостях, помнится — где-то на Нагорной улице. Наверно, Мадина точнее могла бы сказать, а я вот забыл. Мне сдается, что мы были у них на конспиративной квартире. Там, кроме Хусаина и Гафура Кулахметова, присутствовали еще какие-та юноши. Хусаин был превосходным собеседником, смелым, искусным оратором. А вот Гафур — этот выглядел скромным, тихим, малоразговорчивым. Трудно было разгадать в нем убежденного, последовательного революционера. Мы узнали об этом только после Октября. Впрочем, всем, кого мы встречали на этой квартире, была присуща одна и та же черта: скромность, сдержанность в частных разговорах, умение слушать. О своих партийных делах, как выяснилось, они не говорили даже в кругу семьи. Люди удивительной выдержки…
Абузар Гиреевич, должно быть, устал рассказывать и замолк. А я еще долго лежал с открытыми глазами, глядя в темноту. Время от времени окна палаты озарялись огнями проезжавших по улице машин. Иногда освещал палату сноп зеленоватых искр, вспыхивающих на трамвайной дуге. В этот поздний час город еще кипел жизнью. Ведь нынче в каждом доме — веселье, радость, песни, пляски. Но я ничуть не жалею, что именно сегодня лежу в палате, а то когда бы еще довелось услышать рассказы очевидца о Тукае, о Хусаине Ямашеве, о Гафуре Кулахметове.
Тянулись дни… Я начал выводить Абузара Гиреевича под руку в коридор. Сперва мы доходили только до крайней палаты и возвращались к себе, потом стали делать пять-шесть концов.
Прогулки бодрили нас. Это был своеобразный массаж, которому профессор не уставал воздавать хвалы.
— Массаж — великое дело! — повторял он. — Не зря на Востоке с древнейших времен широко пользуются массажами. Медицина — это сумма жизненного опыта, ее, как и всякую науку, создала лечебная практика народа, — утверждал Абузар Гиреевич.
Недели через две мы с ним стали добираться до комнаты отдыха. Правда, один, без поддержки, он еще не мог ходить. Тем не менее ноги у него крепли изо дня в день. Сегодня санитарки усадили его в коляску с резиновыми шинами и увезли в ванну. Оказывается, тяжелая болезнь на долгие месяцы лишила его этого удовольствия.
После ванны Абузара Гиреевича уложили в чистую постель. Несколько минут он молча наслаждался ощущением легкости во всем теле, потом заговорил:
— Знаете, мне сейчас так хорошо, у меня такое блаженное состояние, какого, наверно, не испытывала даже толстовская Наташа после первого объяснения с князем. Волконским! — Он очень удивил меня этим неожиданным сравнением.