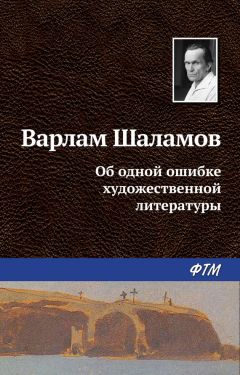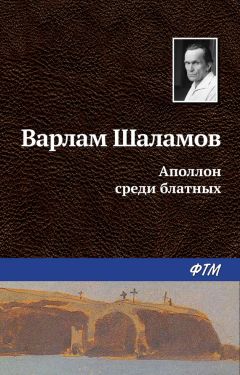То, что можно было втыкать в розетку в электросеть, в России еще не было известно.
До радиоприемников отец не дожил пустяков – одного или двух лет.
Обновленческое движение имело хорошие корни в Вологде и обещало победы, но Тихон, сидевший в тюрьме, оказался хитрее. Он признал советскую власть, раскаялся и покаялся публичным заявлением в газеты. С этого часа обновленчество пошло на убыль. Обновленчество было добито патриархом Сергием уже во время войны.
Александр Введенский и был тем церковным реформатором – их очень много в истории, и не только России, – чьи идеи одержали победу, отстранив и уничтожив самого новатора.
Разве Петру с его западной политикой надо было убивать Софью? Софья была гораздо западнее Петра, гораздо более европейской. Не сражение католицизма и протестантства за завоевание русской души тут надо видеть, а нечто более грубое, более свойственное человеческой природе.
Разве Петру нужно было казнить стрельцов таким диким способом, да еще лично, – ведь во времена стрелецких бунтов казнено две тысячи человек, втрое больше, чем погибло в крупнейшем сражении века – Полтавской битве…
Разве надо было Николаю I вешать Рылеева, чтобы выполнить рылеевские идеи – индустриализацию России, внешнюю политику, железные дороги, освобождение крестьян. Все это сделал Николай, казнив декабристов.
То, что в русской церковной истории называется наследством патриарха Сергия, – это и есть идеи Введенского, принятые на вооружение при отстранении их автора и главного идеолога.
Введенский умер в 1946 году, так и не помирившись с Сергием. Борьба идей весьма отличается от борьбы людей.
На эту тему следовало бы написать не роман (рассказы, наверное, есть), а хорошее историческое исследование.
Самым худшим человеческим грехом отец считал антисемитизм, вообще весь этот темный комплекс человеческих страстей, не управляемых разумом.
Обдумывая, наверное, разные варианты, желающий дать наглядные результаты, как опасное зло можно задушить в зародыше, отец решил проблему этого духовного воспитания в обычной своей догматической и эксцентрической методе.
Старший мой брат родился в Вологде же, еще до отъезда в Америку, а две сестры и брат Сергей – за океаном, на Алеутских островах. Там он воспитывался отцом и на глазах отца по собственной его методике.
Я родился в 1907 году, через два года после возвращения отца в Вологду. Вологда – город, знававший еврейские погромы.
Когда я пошел в школу, отец сделал самое простое, чтобы получить из личности своего сына самый надежный результат.
В школе мне было разрешено приглашать к себе домой только товарищей-евреев. Так вышло с самого детства, что у нас дома постоянно – Желтовский, Букштейн, Кабаков, а также Виноградов, Алексеев – те лица, родители которых вели себя так же, как отец.
Так была успешно решена одна из важнейших педагогических проблем, беспокоивших отца.
Разумеется, в наш дом мне разрешали принимать кого угодно. То же относилось и к моим братьям и сестрам. Всех, кроме антисемитов.
Отцовская методика давала вполне надежный результат. Принцип срабатывал сам собой, как кибернетический автомат, закладывавший в юный мозг доброе и вечное.
Я думаю, что с отцами моих товарищей отец говорил и сам. Отец считал сионизм естественной еврейской религией и поддерживал еврейство не в горьковском, а в сионистском смысле. С удовлетворением, наверное, отец видел, как хорошо срабатывает его педагогический прием. Но отец не ограничился таким приемом в этой проблеме. Еще до войны, еще до школы, когда мне было лет пять, отец брал меня на свои прогулки – тут мы просто гуляли, но всегда в этих маршрутах была какая-нибудь важная тайная цель.
В одну из осенних прогулок отец привел меня к зданию синагоги и коротко объяснил, что это дом, где молятся люди другой веры, что синагога – это та же церковь, что Бог – один.
Встревоженный сторож – синагога была заперта – хотел побежать за раввином. Намерение отца было войти в храм, увидеть службу. Но время было не молитвенное.
В 1917 году сионисты по выборам в Учредительное собрание шли отдельным списком, и отец это одобрил. Сам он голосовал за Питирима Сорокина, правого эсера, – своего земляка…
* * *
Поток истинно народных крестьянских страстей бушевал по земле, и не было от него защиты.
Именно по духовенству и пришелся самый удар этих прорвавшихся зверских народных страстей.
У каждого дворянина находился родственник из свободомыслящих, а то и просто революционеров, и справки эти спасали семью, давали ей какие-то права.
У духовенства не было таких справок.
Особенно тяжелым был удар по узкой прослойке ученых либеральных священников от Булгакова и Флоренского. Если Булгаков, Флоренский, Бердяев, Сорокин с трудом, но еще могли найти для себя защиту или выход в Москве, в столице, то уж для провинциальных свободомыслящих не было пощады. Их била – уничтожала, оскопляла – и «черная сотня», мстя за борьбу, и власть – по принципиальному догматическому положению.
Этот тяжелый удар перенес и отец. Вдобавок у него убили любимого сына, и он сам ослеп. Но мама, повторяю, не писала пьесы о мертвом Боге, а целых четырнадцать лет в одиночестве сражалась за жизнь.
Потом умерла.
Отцу мстили все – и за всё. За грамотность, за интеллигентность. Все исторические страсти русского народа хлестали через порог нашего дома. Впрочем, из дома нас выкинули, выбросили с минимумом вещей. В нашу квартиру вселили городского прокурора.
И пусть мне не «поют» о народе. Не «поют» о крестьянстве. Я знаю, что это такое. Пусть аферисты и дельцы не поют, что интеллигенция перед кем-то виновата.
Интеллигенция ни перед кем не виновата. Дело обстоит как раз наоборот. Народ, если такое понятие существует, в неоплатном долгу перед своей интеллигенцией.
Новые силы, новые краски вошли в мою жизнь с приходом в наш класс моего сверстника – Алешки Веселовского. Алешка был маленький литературоведческий вундеркинд, имевший научные публикации уже в десятилетнем возрасте. Этот Моцарт литературоведческий болел туберкулезом.
Алешка был сыном племянника Александра Николаевича Веселовского, крупного литературоведа Алексея Николаевича[26]. Сам Алексей Алексеевич, отец Алексея также имел ряд напечатанных трудов и после смерти отца в 1918 году бежал всей семьей в город хлебный, в Вологду, спасаясь от голода. На Север бежали немногие, и бегство профессора Веселовского не было связано с «Чайковскими событиями» в Архангельске[27]. Алексей Алексеевич просто искал хлеба, заработка и подходящих условий для больного туберкулезом маленького сына. Такие условия Веселовский нашел в Вологде и прочно там обосновался. Он преподавал историю, литературу в Вологодском рабфаке, новом привилегированном заведении, где оплата «шкрабов» была выше, чем в какой-нибудь жалкой школе 2-й ступени, которая не давала ни хороших карточек, ни места для учеников.
Сам же рабфак был размещен в Вологодской духовной семинарии.
Алешка Веселовский был родом из знаменитой литературоведческой семьи, где поколение за поколением укрепляло литературоведческие высоты, завоевывало новые рубежи, семьи, где подобно музыкальному гену в гении Бахов можно было говорить вполне и о литературоведческом гене.
К сожалению, этот ген не был проверен – дальнейшие поколения русских литературоведов были остановлены смертью Алешки в Вологде от туберкулеза – в 1921 году.
Вот в его-то семье – мать и отец оба историки литературы – я и встретил впервые в жизни настоящую библиотеку – бесконечные стеллажи, ящики, связки книг, набитых под потолок, – царство книг, к которому я мог прикоснуться.
В семье у нас не следили за опозданиями детей, и я широко пользовался этим разрешением.
Впервые тогда в мою жизнь вошел эпос – французский, мы читали на голоса «Песнь о Роланде», с Алексеем же вместе мы выучили наизусть всего Ростана в переводе Щепкиной-Куперник и разыгрывали целые сцены то из «Орленка», то из «Сирано де Бержерака», то из «Принцессы Грезы», то из «Шантеклера».
Эти вечера со скромным чаепитием, изредка с сахарином, часто кончались спиритическим блюдечком, до которого и отец, и мать Алешки были большие охотники.
В преферанс у Веселовских не играли, но блюдечко вертели весьма усиленно. Иногда и Алешка, и я, и еще кто-то из товарищей Алексея принимали в этом участие. Не помню, каких именно духов вызывали взрослые, какие именно вопросы задавали, но в наших детских спиритических вечерах мы вызывали по книжкам Роланда, Наполеона. Путных ответов мы не получали – возможно, оттого, что у меня были какие-то «флюиды» в пальцах, которые не дали явиться духу.
Эти спиритические попытки общаться с загробным миром всегда кончались – именно по предложению Алешки – немедленным доказательством устойчивости: посещением ночью кладбища. Кладбище Духова монастыря было под боком, и вот мы, после душной тесноты спиритического сеанса, выбирались на морозный воздух к Северной звезде.