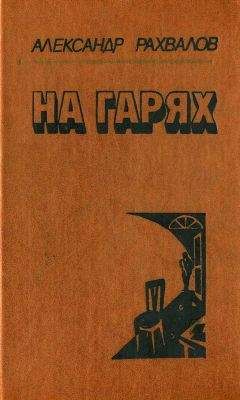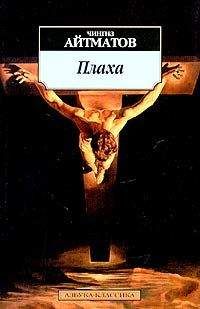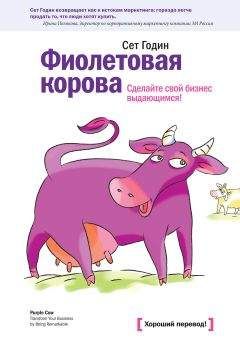— Дрыхни ты, блоха! — прикрикнул на него Роман и, не раздеваясь, прилег.
Ему не хотелось ни сладостей, ни пряностей, о которых здесь частенько мечтали вслух, ни игрищ, ни танцев в ДК. Больше всего он устал от молчания и спячки. Столько всего накопилось на душе, а выхода не было… Пустые разговоры не могли вычерпать из него застоявшуюся энергию. Она бурлила в нем, как гудрон в котле, раздирая ребра, но в любую минуту могла загустеть и схватиться намертво. Что будет дальше? Вот-вот прорвется оболочка — и озлобленность хлынет на того же Писку…
Никогда он не был таким одиноким среди людей, как здесь, в камере. Вроде бы люди, вроде бы говорят, но сердце не обманешь — оно, как белка, давно, оказывается, научилось сортировать орешки, на вид одинаковые: одни крепкие, другие же с горьковатой плесенью внутри. Эти были гнилыми…
Котенок, когда отходил от Романа, бравировал:
— Не тужи, кровняк! Подумаешь — срок какой… Как говорят блатные, не бери в голову, а бери… хоть куда!
И эта пошлятина не могла настроить против него, и Роман продолжал обхаживать Котенка со всех сторон. Мать сидела в сердце, мешала жить.
Чутким был он пареньком, наверное, в мать.
Он читал все подряд, но не было таких строк, что могли бы вернуть его к прежнему состоянию — когда живешь, ничем не мучаясь и не терзаясь.
Подумав о Котенке, он скосил на него глаза. Тот спал спокойно, привычно как-то — в излюбленной позе: поджав под себя высохшие ноги.
А ему не спалось.
И дрожь пробила, как тогда — дома у матери, когда приехала к ней бабушка, ее мать.
«Дом ли?» — улыбнулся тогда Роман, но придержал язык. Действительно, собрали его мигом, внахлест — как сарай, и не было в их труде той неспешности, какою веет за версту от хозяина, поднимающего пятистенок. Не работа, а насмешка над руками человека (он помнил, как строились бабка с дедом). Здесь — не то, и дом не тот, и дух не тот. Бабушка сидела по ту сторону стола, покрывшись огромной шалью. Одно личико светилось, как исхоженный и исчерканный птицами снег. Но он обратился к матери, а не к бабушке:
— И что ты решила сюда перебраться? Мне не трудно помочь, но я не пойму, как можно было уехать из села?
Тяжелая и усталая, она ответила каким-то непривычным, как этот домик, голосом:
— Понимаешь, сынок, в пятьдесят лет думается о многом. Вспоминаешь, как жил ты, что сделал за свою жизнь и что бы мог иметь. Не знаю, как объяснить. Но помню — глянула, а в квартире пусто! Вас обоих нет под боком… Вот и бросилась искать свою жизнь, пока не поздно да сила в руках есть. Не сидеть же одной, как сова? — Она волновалась, даже дыхание осыпалось в ее груди, как шлак между стойками в дощатых степах. — Не к бабке же было идти? Не к дочери же было присыхать? Здесь хоть свою жизнь устроила… Вон какой красавец сидит! — кивнула она на мужа. — Понимаешь, сын?
Тот улыбнулся матери, но с ответом не собрался. Честно говоря, он не понял ее. Зато поступок, на который решилась мать, бросив в селе неплохую квартиру, вызывал уважение. Внутренне он был за нее, отчаянную донельзя. Матери этот домик казался, может быть, огромными купеческими хоромами, но бабка убила в ней радость:
— Стыдобища какая! Халупа ведь… Дунь — и нету! Да разве б я стала жить в такой? — стучала она сухонькой ручкой по фанере. — А сколь денег ухлопано! А чем отдавать?
Всем стало неловко. Тихон съежился и опустил глаза. Роману хотелось одернуть бабушку, которую он уважал за многое — года два в детстве он провел в их доме и ни разу не был обижен ни ею, ни дедом — да слов не нашел. Только вспыхнул: «Родные ведь! И как она могла в такую пору спрашивать про деньги? Мать сидит вся в заплатках… Высохла бабушка телом, высохла душой…» Но мать была сильной. Она не взвыла, прикидываясь несчастненькой, а наоборот, расправилась, как птица перед полетом:
— Чем отдавать? — переспросила она, взглянув на мать. — Не собираюсь пока отдавать. Зато занять хочу рублей шестьсот — на коровенку. А, матушка?
— Ну, не знаю! Господь с тобой, — удивилась та. — Дед ворчит и без того: «На кой мне их дома? Деньги пущай отдаст! А че, че я — в районный город поеду натощак?» Вот и поговори с ним. Хозяин он у меня строгий, потому сроду не побирались…
— И я не побираюсь. У родных беру, у матери своей… Или ты отказалась от меня опять?
Ворошить старое не хотелось. Бабушка посмотрела в окно.
— Все не нажадничаетесь. Как всегда… Кой черт вас в Обольск-то понес? — спросила мать.
Бабушка смирилась.
— Спрошу его… насчет денег. Может, даст, — проговорила она, не отворачиваясь от окна. — Живите так, коль на большее нет толку.
Тогда он вдруг понял, что мать им не дочь, а вечный должник. Она полностью зависела от их денег: дадут — заведет корову, не дадут… И жалко ему стало мать — будто на его глазах топили щенка.
А бабушка через час спохватилась:
— Все, поеду домой! Ох, надо ехать, ехать.
— Да гости, матушка! Чего тебе там делать, с жадюгой своим? — пыталась она остановить старуху. Но та была настырной смолоду:
— Нет, поеду. — И всхлипнула: — Коровушка ждет! Руки здесь, ноги, а душа туда бежит, нечистый дух. Надо ехать, Клава.
Роман тоже решил ехать в училище, но мать уговорила его остаться еще на денек-два: колодец выдолбить. И он, проводив бабушку, вернулся домой. Родители сидели хмурые… Без разговоров постелили, что могли, на пол и проспали вповалку до самого утра.
Уезжая, он взял у матери только на дорогу — три рубля. Знал, что денег нет. Обнял ее, а она — литая, тяжелая и опять — чужая-пречужая… Родней не бывает, как понял позже.
Теперь он вспомнил об этом.
Вспомнил и о том, что сестра говорила на суде: старики переехали в Обольск. Продали дом, корову и переехали сюда. Здесь полюдней, повеселей сердцу… Но не его сердцу!
«Переехали… Интересно, дали они матери денег на корову или нет? Не может быть, чтоб родной и не дали? Хотя всякое было…»
В груди пощипывало, будто легкие приморозил. Но самым больным было то, что он понимал: никто никому и ничем не обязан даже в их немногочисленной родне! Он помнил, как строились старики, и знал, с каким трудом копились их рублики — к копейке копейка, одна другой круглей, и теперь их, этих копеек и рублей, было, наверное, ровно столько, чтобы дожить свою жизнь, припрятав положенное на смерть, к мысли о которой человек привыкает смолоду. С кого тянуть? По какому праву?.. И за мать, и за стариков, наработавшихся в своей жизни, болела душа, но мать все-таки… Ее было жальче.
«Милые, родные, помогли бы ей, помогли! Как-то надо подняться ей на ноги, сильной, хорошей, несчастной в своей жизни… Нет, я не могу требовать от нее передачу, не могу!»
…В коридоре загремела тележка с баландой, захлопали «кормушки», зазвучали голоса. И в сорок третьей все поднялись, как по команде.
— Ты че такой пришибленный, сроком придавленный, сморщенный, как тюремный бубон? — спросил Котенок, натягивая сапоги. Ножки не слушались его и выворачивались ступнями внутрь в широких, как трубы, голенищах. — Чего пригас?
— Да так, не спалось, — с неохотой ответил Роман. А когда подавал Дусе миску, вдруг понял и воскликнул про себя: «Так они же разные! И бабка, и дед, и мать… Все у них разное, потому что от разных кормушек отходили, а не от разных кровей… Она — голодом, но в душе столько света, они — сытые, а просят еще: когда деньги вернешь?»
— Отваливай, отваливай! — прогудел надзиратель.
«Выходит, что смахни кормушку — исчезнет эта проклятая разность! Заживем душа в душу!..»
— Ну чего встал? Дома надо было есть! Отваливай, — торопил надзиратель. — Навалили ему до краев, а он еще ждет.
«Теперь не до „кормушек“. Дай волю, хоть какую! Вот, наверное, в чем суть».
Едва поели, как дверь распахнулась. Писку с Зюзиком вывели по записи (единственная роскошь — записаться с подъема к оперативнику или в санчасть. Те принимали, если считали нужным. Правда, оперативник — кум — принимал всегда: мало ли? А вдруг тот, кто записался на прием, идет с сообщением о преднамеренном убийстве в своей камере?!).
— Зюзя, не вломи нас! — усмехнулся Котенок, провожая их взглядом. — А то фуганешь, тебе не заподляк, фрайеру.
Писка уходил в санчасть, хотя на болезнь никому не жаловался (лишь бы сходить, растрястись малость).
Они остались вдвоем.
Тогда и вызвали Котенка на «решку». Он подскочил к окну и, оттолкнувшись от коек, оказался под самой форточкой.
— Базарь.
— «Чайковского» подогнали, — полушепотом ответили снаружи.
— Ништяк, земеля! Я скнокал. — И тотчас свалился на пол, крепко сжав в кулаке какой-то пакетик. Но Роман знал, что Котенку заслали грев — щепотку чая, на запарку. Тюрьма тюрьмой, но запрещенный в камерах чай всегда имелся у заядлых чифиристов.
— Уколюсь хоть! — раскраснелся от волнения Котенок. — А то кровь закисла.