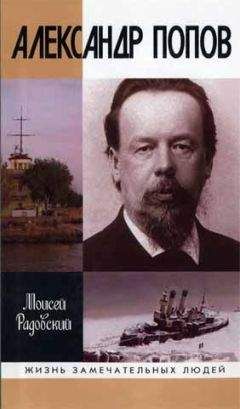Нестерненко все это проговорил сочно, основательно, поглядывая на товарищей, а товарищи смотрели на Мишу. Очевидно было, что в характеристике Миши все с бригадиром согласны, пожалуй, согласен и сам Миша. Он даже не протестовал против информации о влюбленности, в которой были, несомненно, нотки нестеровской шутливости.
– Теперь дальше: Петр Акулин.
Петр Акулин не улыбнулся. Как сидел боком, так и остался сидеть. У него было худое простецкое лицо, покрытое густым деревенским румянцем. Казалось, что лицо это не способно к улыбке.
– Акулин у нас лучший токарь в колонии и в восьмом классе лучше всех учится. И аккуратист, и дисциплину знает, и комсомолец первый сорт. Будет летчиком по прошествии времени. Само собой, будет. Только корзину у нас каждый имеет, и у него есть корзина. И никто никогда не запирает, такого обычая нет в колонии. Акулин же три дня назад замок повесил, – некрасиво. Либо ты воров боишься, либо тайну какую собираешься завести, кто тебя знает, а только замки в колонии заводить не следует. Другое дело на заводе, государственное имущество должно быть заперто для порядка, а в бригаде товарищи живут, к чему здесь замок?
Акулин не обернулся к Нестеренко, одну руку положил на спинку соседнего стула, сказал невыразительно, тихо:
– Я не от товарищей замок…
– Знаем. Думаешь, у нас место свободное, новенького пришлют, а он к тебе в корзину полезет. Конечно, полезет, если замок висит. А зачем так думать: как новенький, так и вор. Мало ли чего там у каждого было – в старой жизни! Чернявин тоже новенький, видишь, сидит с нами, так и по нему ж видно: он к товарищу в корзину не полезет.
Акулин убрал[150] руку со спинки стула, прохрипел:
– Сниму.
В бригаде, притаившейся в ожидании, как будто все вздохнули. На самом деле не вздохнули, а просто пошевелились.
– Дальше: Александр Остапчин – помощник бригадира восьмой бригады трудовой колонии имени Первого мая.
Уже по тому, как торжественно произнес бригадир название должности Остапчина, можно было заключить, что Остапчина в бригаде любят и относятся к нему немножко насмешливо. И сам Александр Остапчин, услышав свою фамилию, мигнул, повернулся к бригадиру, положил голову на кулаки, поставленные один на другой. У Остапчина большие карие, красивые глаза, чуть-чуть подернутые веселой, маслянистой влагой.
– Совсем человек как человек – и токарь неплохой, и в десятом классе, и помбригадира, и прочее. Настоящий человек, а только одна беда: трепач. Ох, и трепаться же любит, прямо хлебом не корми, а дай поговорить. И хоть бы дело говорил, а то язык говорит, а он за языком бегает, остановить не может и на правильную линию пустить тоже не может. И по сторонам не смотрит: свой, чужой, совсем посторонний – ему все равно; он говорит и непременно загнет куда-нибудь. Всей бригадой удержать не можем. Мечтает: прокурором буду. Так разве можно, чтобы прокурор за собой не смотрел? Прокурор если что скажет, так все к делу, да перед этим два раза подумает. А нашему Александру всегда нянька нужна, чтоб его за полы хватала.
Остапчин не смутился, не обиделся, его глаза по-прежнему смотрели на Нестеренко, улыбались дружески, но в какой-то еле заметной степени и нахально. Он как будто был даже доволен, что у него есть такой интересный недостаток, и тоном полудетского каприза возразил:
– А что я такое когда говорил?
– А помнишь, приехала к нам женщина из Наркомпроса. А ты ей такое натрепал, что она чуть не плакала.
– Правду говорил.
– Правду? Правду говорить тоже к месту нужно. Она приехала познакомиться с нашей жизнью, и может, и поучиться хотела, значит, у нее где-то там натерло, а ты речь… прямо с горы: ничего вы, наркомпросовцы, не понимаете, все путаете, даром хлеб едите. Она потом спрашивает, кто это такой? А я ей, конечно, ответил: не обращайте внимания, так себе, новенький, еще не отесался.
Колонисты расхохотались. Остапчин смущенно отвернулся, но глаза его даже в этот момент не потеряли своей влажной улыбки.
– Санчо Зорин, во! Он – сам видишь, какой!
И действительно, Санчо был виден, как бывает виден насквозь ясный апрельский день. Услышав свое имя, он немедленно взобрался с ногами на стул, открыл любопытную улыбку прямо в лицо бригадиру. А бригадир сказал ему с добродушной строгостью:
– Чего ты с ногами на стул залез? Чернявин, он назначается твоим шефом, давно тебя ждет. Будет твоим шефом, пока ты получишь звание колониста. Будет тебя всему учить и на общем собрании докладывать на звание колониста. Человек он горячий, а только не всегда справедливый бывает. Если ему вожжа попадет под хвост, так никакого удержу нет. Ты на это не обращай внимания.
Игорь кивнул и засмотрелся на Зорина. А Зорин уже кивал ему, и моргал, и всем лицом рассказывал о чем-то. Лицо у него было острое, живое, быстрое. В течение одной секунды он успевал отозваться на все впечатления, всем ответить и у всех спросить. И сейчас каким-то чудом он успел показать бригадиру, что он благодарен ему за правду и постарается поменьше горячиться, что он видит любовь к себе всей бригады и отвечает ей такой же любовью, что он поможет Чернявину сделаться хорошим колонистом и что Чернявин не должен робеть. Это лицо больше рассказывало о Зорине, чем мог о нем рассказать бригадир.
Нестеренко перешел к другим, их было еще шесть человек, все юноши шестнадцати – восемнадцати лет. Нестеренко всех их признал хорошими мастерами, прекрасными товарищами и колонистами, но в каждом отметил и недостатки, отметил в упор, улыбаясь сдержанно, выбирая и округляя слова, но в то же время не скрывал и досады, требовательной и въедливой. Лиственному Сергею он приписал слишком большую любовь к чтению, послужившую причиной того, что Лиственный ходит «как сумасшедший». Широкоскулому, белобрысому, нескладному Харитону Савченко – вялость характера. Борису Яновскому, кучерявому красивому брюнету, – наклонность к запирательству и брехне. Всеволоду Середину – пижонство, Данилу Горовому – неуязвимость характера и излишнее хладнокровие.
Все слушали бригадира молча, никто ничего не возражал, но когда он кончил, все загалдели, засмеялись, напомнили друг другу самые вредные детали характеристик и напали даже на Нестеренко с разными дополнительными вопросами. Но Нестеренко не долго их слушал:
– Чего крик подняли? Дайте же кончить. Познакомьтесь вот с Чернявиным, забыли, что ли?
Александр Остапчин закричал:
– Ты про нас можешь рассказывать, а про себя ничего не сказал? Когда я буду бригадиром, я про тебя расскажу.
– Вот я и подожду, когда ты будешь бригадиром, тогда и про меня скажешь, хотя я так полагаю, что ничего умного не скажешь. Принимайте Чернявина!
– Да уж приняли! Чернявин, руку! – Остапчин размахнулся своей рукой. – Санчо, довольно тебе там, бери человека в работу. Смотри, какой хороший материал для комсомольца.
Все посмотрели на Игоря, и этим моментом Игорь воспользовался:
– Синьоры!
Все затихли, повернулись к нему.
– Синьоры! Вы понимаете, я очень благодарен вам, что приняли меня к себе. Только вы понимаете… про вас вот товарищ бригадир все рассказал, а про себя я сам должен рассказать, правда?
Кое-кто улыбнулся. Акулин посмотрел подозрительно. Гонтарь с осуждением, Нестеренко сказал:
– У нас нет такой моды, чтобы новенький о себе рассказывал. Да тебе и нечего рассказывать. Какой ты человек, мы и сами увидим. А кроме того, не нужно говорить «синьоры». Понял?
– Понял, товарищ бригадир, виноват, товарищ Нестеренко.
– Иди сюда, Чернявин, – Санчо Зорин ожидал его в углу комнаты. – Вот твоя кровать, вот твоя тумбочка, все хозяйство. Мыло и зубной порошок получишь у помощника бригадира Остапчина. Два дня будешь отдыхать, а потом за дело. Вечером я тебе что-нибудь расскажу. Ты в каком классе будешь?
– В восьмом.
– Здорово. И я в восьмом. А вообще – ты свободный гражданин! Куда хочешь!
Санчо широким жестом показал на окно. За окном было поле, а на самом горизонте виднелись постройки города.
Вечером Игорь Чернявин заснул не скоро. Постель была свежая, прохладная, чистая, такая постель была у него только тогда, когда он жил еще дома; заснуть в такой постели показалось ему высшим блаженством. В эту минуту ему хотелось выразить кому-то благодарность и за эту постель, и за чистое белье, и за новый симпатичный костюм, и за узкий черный пояс. Кого только благодарить? Алексея Степановича? Воленко? Восьмую бригаду? А может быть, просто Советскую власть? Но о Советской власти Игорь Чернявин имел самое сложное представление. От школы остались чисто словесные образы, от Ленинграда – неясное, забытое ощущение детства, зато в «вольной» жизни Советская власть вспоминалась – власть строгая, требовательная и настойчивая: милиционеры, стрелки, воспитатели в приемниках, люди в белых халатах. Изо всей Советской власти наиболее покладистым и безобидным существом была Полина Николаевна, но он вспоминал ее остренькое и умненькое лицо с острой неприязнью. А здесь, в колонии, он ощущал Советскую власть очень сложно, в непонятном, густом экстракте; трудно даже было разобрать, где она находилась. Конечно, Алексей Степанович, конечно, Николай Иванович. Но Санчо только что рассказывал: все эти дома наново построены на чистом поле. Все сделано наново: и цветники, и зеркала, и паркет. Санчо говорил: ничего старого, все Советская власть сделала. И по словам того же Санчо выходило, что Советская власть – это не только Алексей Степанович и учителя, но еще и они, все колонисты. Санчо так и говорил: мы сделали, мы купили, мы решили, мы постановили. Выходит так, что и сам Санчо Зорин тоже Советская власть. И Володя Бегунок!