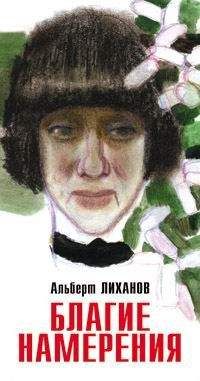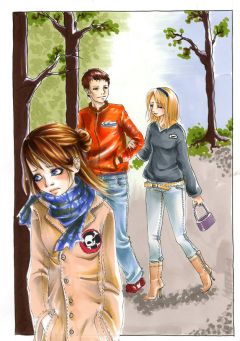Анечка переполнена матерью, а я Анечкой.
Что же это было с ней? Разумность, потом вспышка агрессивности и слезы. Классическая формула истерики. А я? Кто же для нее я, если она способна кинуться на меня с кулаками?
Кто бы ни была, но мать для нее дороже. Любая мать, даже такая, как Любовь Петровна – лишенная родительских прав. И я не должна противиться. Не имею права становиться между ними, вот ведь как, хотя обязана, обязана по своему служебному положению.
Но что я могу? Анечкины мысли минуют все запреты. Мать отказалась от дочери, но ведь дочь не отказалась от матери. Готова за нее бороться. Разве можно этому противиться?
Разве должно?
Приближался вечер, час отбоя. Меня позвали к телефону.
Виктор предлагал пойти в кино, уже взял билеты. Я отказалась.
– Хорошо, – сказал он, – я сдам билеты и подъеду к тебе.
Девочки спать не хотели, спорили со мной. Аня перевозбуждена и дергается, крутится, прыгает. Аллочка, напротив, заторможена, шевелится медленно, неохотно. Но уснуть не может. Свои мысли гложут ее.
Какие разные эти мысли и какие одинаковые! Две малышки, а намешано в них на десятерых благополучных взрослых.
Я едва уторкала их. Пришлось даже спеть колыбельные песенки.
Я нервничаю, Виктор уже наверняка ждет меня в учительской, как договорились, а девочки все не угомонятся. Наконец заснули. Первой, как ни странно, Аня. Нервничала, а спит ровно и глубоко. Алла была спокойной, заторможенной, а лежит нервно, веки дергаются, точно вот-вот откроет глаза.
Никакой логики. Никакой последовательности.
Спускаясь вниз, я вспоминаю Евдокию Петровну, наш короткий, но откровенный разговор. Она убита, во всем винит себя, казнит, что в новогоднюю ночь не уследила за Анечкой. Просит позвонить, если Аня захочет к ней. От кофточки, конечно, отказывается.
Я вижу, как, выбравшись на крыльцо, женщина достает из пальто платочек, прикладывает к глазам.
Что ж, много слез пристает к моим детям, и ничего, видно, не поделаешь тут. Простите, милая Евдокия Петровна!..
Виктор сидит на диване в учительской, и я сбивчиво, торопясь, принимаюсь объяснять ему подробности моей бурной жизни. Его глаза откровенно смеются, будто мой рассказ смешон, хотя в нем нет ни единой забавной крохи.
– И долго это будет? – спрашивает он. Что-то подобное я уже слышала. Да. В новогоднюю ночь. «И-часто-будут-красть?» – спросил он ледяным голосом, кажется, так. Вариация на известную тему.
– Всегда, – отвечаю ему с улыбкой. Я, пожалуй, научилась у него откровенно прямой, с нахальцой, улыбке. – А что? Не подходит?
Смех исчезает из его глаз, одна сплошная трезвость.
– На-адя! – начинает он убежденно. – Но время самоотверженности в педагогике кончилось!
– Ты думаешь? – улыбаюсь я.
– Эпоха старых дев, беспредельно преданных ученикам, осталась в прошлом!
– Ах вот как…
– Мы живем в эпоху совмещенных страстей. Школа, семья, общественные поручения. Редакция, дом, искусство. Человек троит себя, четверит, семерит. А как же! Время! Темп! Надо делиться на много частей, чтобы успеть во всем.
– Понемногу? – ехидно спрашиваю я.
– А что в этом плохого?
– Не мало ли – понемногу. Может, лучше много в одном?
– И что же увидишь, узнаешь, полюбишь? Единственное свое дело? Не мало ли?
– Мало! – вздыхаю я и поднимаюсь.
– Так в чем же дело?
– Твои совмещенные страсти напоминают мне, прости, совмещенный санузел. А у меня наверху две девочки. Пора идти.
Виктор бросает свои доказательства, как слабосильное оружие. Применяет другое, покрепче. Обнимает меня, и мы целуемся.
Голова кружится, спорить не хочется.
Но поцелуи кончаются, наступает трезвость. Мы расходимся, и, глядя Виктору в спину, я вспоминаю слова Гоголя о вседневном и обыкновенном положении.
Из суеверия, что ли, свои победы нормальный человек считает делом если и не обычным, то естественным и склонен их преуменьшать, а вот беды и несчастья – преувеличивать. Добивается чего-то, стремится к цели, мечтает о ней, а добился, будто так и надо и ничего чрезвычайного не произошло.
Вот и у меня. Вызвал Аполлон Аполлинарьевич. Рот до ушей. В кабинете Никанор Никанорович. Торжественный, как тогда, при всех регалиях.
– Ну как? – спросила я его.
Он меня понял.
– Все в порядке. А у вас?
– Примерно раз в неделю. Что вы! Громадный прогресс! – Мы говорим о Колином недостатке. Доброта, любовь, спокойствие лечат его в доме Никанора Никаноровича, все идет хорошо.
– Какие-то у вас свои секреты, – смеется Аполлон Аполлинарьевич. – Чур, чур! Не вмешиваюсь! – обращается ко мне. – Так каково ваше мнение?
Я не понимаю, о чем он, и Никанор Никанорович поясняет:
– Мы решили Колю усыновить, все документы подготовлены, слово за вами.
За мной? Но позвольте!..
Я смотрю то на директора, то на Никанора Никаноровича и не могу взять в толк, чего от меня хотят? Мнение? О Коле? Оно не имеет значения в данном случае. И мне нужно решать, как я отношусь к отставному полковнику. Прекрасно, вот как. Дважды была у них дома. Строгая обстановка. Чудесные люди.
Боже, о чем я? Какой примитив лезет в голову!
Это же исполнение моей мечты! Да, Аполлоша говорил, школой жизнь не кончается. Напротив, лишь начинается. И суть нашей идеи в том, чтобы у ребят появились друзья, к которым можно прийти после школы. Поговорить. Написать поздравительную открытку к празднику. Посоветоваться в трудный час. К этому мы пришли. Но мечтали-то о другом. Нас двоих, троих, пятерых не хватит на двадцать душ. Надо быть предельно честным и трезвым – не хватит, не хватит, хоть тресни. Дефицит любви. Любовь – вот наш идеал. А если ребят полюбят другие взрослые, мечта, можно считать, сбылась.
Думала ли я о родителях для наших ребят? Нет. Этот же самый Никанор Никанорович первым произнес слово «усыновить». Его повторяли другие. Из других выдерживают не все. Но Никанор Никанорович военный. Он спасал детей на фронте. У него есть свои резоны, милый, добрый, достойный человек.
– А как здоровье? – спросила я невпопад.
– Вопрос законный, – ответил Никанор Никанорович, чуточку усмехнувшись. И ответил: – Колю надеюсь дотянуть.
Аполлон Аполлинарьевич вытащил из кармана авторучку, занес ее над листом бумаги.
– Надежда Победоносная! Ваш приговор!
– Спасибо!
– За что ж спасибо? – удивился Никанор Никанорович. – Нам вот совет ваш требуется! Как скажете? Оставить его у вас? Перевести в другую школу?
Я переглянулась с Аполлошей. Он потупил глаза. Я не раз свою работу с врачебной сравнивала. Всегда жалко, но, исходя именно из жалости, надо резать по живому.
У Коли будет отец, Никанор Никанорович, а от Аллы Ощепковой отказались, в гости даже не станут брать. Как это соединить? Да и надо ли? Уж лучше по живому, хоть и пришли ребята из дошкольного детдома, вон с каких пор знают друг дружку!
– Перевести, – сказала я.
– Согласен, – подтвердил Аполлон Аполлинарьевич.
– И я так думаю, – кивнул Никанор Никанорович.
Вот и исполнилось одно желание, а радости, странное дело, нет. Напротив. Лишилась Коли, беднее стала.
Отправилась бодро по коридору, потом медленнее пошла, остановилась у окна. Вспомнила, как Коля ревел от боли, а потом уснул на моих коленях, как приехал врач, похожий на разбойника, как потом металась я по больничному коридору, проклиная свою неопытность, недопустимую нерешительность – зубрила свой первый урок, из элементарных.
Ко мне подошла Маша, чего-то спросила.
– Слышала? – сказала я и опять, дура, заплакала. Она не раздумывая кинулась утешать:
– Умер кто? Дома чего? Успокойся. Ну что поделаешь?
– Не-ет! – протянула я, как обиженная девчонка. – Колю-то! Урванцева! Усыновили!
Маша всплеснула руками.
– Так чего ревешь? Это же хорошо!
– Хорошо-о! – обиженно, еще всхлипывая, промямлила я.
– Эхма-а! – обняла меня Маша. – Слезы твои значат, дорогая Наденька, что незаметно для себя стала ты знаешь кем?
Маша заглядывала мне в глаза, смеялась, качала головой.
– Не знаешь? Учительницей! Эх, макова голова!
Мы судили, как быть. Устроить Коле проводы, например, торжественный ужин с интернатовским пирогом – у Яковлевны это отлично получается – или уж тихо, без всяких разговоров отправить его к Никанору Никаноровичу, да и дело с концом?
Судили, рядили, и так плохо – каково другим, и этак нехорошо – ушел и не проводили. Решили: как начали, пусть так и идет.
Только наши старания оказались пустыми. Когда Коля уходил, весь взрослый народ вывалил на крылечко. Я глянула назад, на интернатские окна, и ахнула. Все мои ребята к окнам прилипли. Носы сплющили о стекла. А Коля им рукой машет.
И снова беда нагрянула.
Может, я зря такими словами кидаюсь? Разве это беда? Но бывает, бывает так, радость одного для другого бедой оборачивается. В очередной понедельник с Севой Агаповым пришел Степан Иванович, тот самый охотник, который ворону убил, и, потупясь, сказал, что уезжает вместе с семьей за границу.