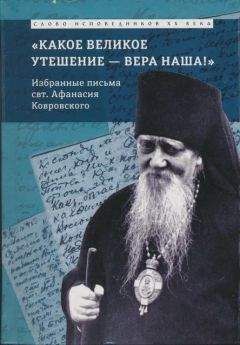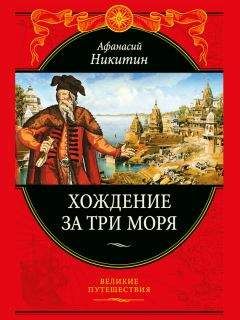Афанасию даже стало жалко этого осиротелого, заброшенного всеми моря. Притаптывая сапогами побуревший к осени дурнишник, Афанасий повернул было к берегу, чтоб посидеть там где-либо под кустом лозы, посмотреть на морские затухающие просторы, на свой дом, который виднелся совсем уже неподалеку и который называть своим осталось совсем уже недолго…
И вдруг он словно споткнулся на ровном месте. Прямо перед ногами было мокрое, водянистое пятно. С минуту Афанасий постоял над ним, не понимая, откуда оно могло тут взяться, далеко от берега, в нехоженых зарослях дурнишника. Потом, отпустив Горбунка, он присел на корточки и стал наблюдать за пятном, еще боясь и не веря своей догадке. А пятно между тем расползалось, увеличивалось, поступающая откуда-то из-под земли вода отвоевывала у пляжа песчинку за песчинкой. Они быстро темнели, набухали и опускались в мокрую отвердевшую впадинку.
Афанасий вначале ладонью, а потом подобранной неподалеку щепочкой начал раскапывать эту впадинку в самой ее середине, в центре, где песок был особенно сырым и податливым. Горбунок удивленно топтался за спиной, не чувствуя еще, не понимая того, что уже чувствовал и понимал Афанасий. Все настойчивей и поспешней разгребая песок, он уже слышал биение воды, ее клекот, еще подземный, глухой, но неостановимо рвущийся на поверхность, к осенним травам, к деревьям и морю…
И вот прямо из-под Афанасиевых рук взметнулся над горкой песка ключик, забурлил, забился уже по-живому, сразу наполняя вокруг себя лунку прозрачной, чистой, как утренняя роса, водой. Афанасий не удержался, набрал этой воды в горсть, отпил два-три глотка, дивясь ее уже почти забытому вкусу, а потом плеснул остатки себе в лицо и наклонился было над ключиком-родничком опять, чтобы теперь уже насытиться водою вдоволь, но неожиданно ему напомнил о себе Горбунок. Он вдруг оттеснил Афанасия от лунки и, подавшись далеко вперед головой, припал к родничку, начал пить, втягивая в себя воду с легким прихрапыванием и даже как будто со стоном. Афанасий не стал ему мешать, дал напиться вволю и лишь в самом конце, придержав Горбунка за уздечку, плеснул ему на глаза и лоб родниковой ожившей воды. Горбунку это понравилось, он подступил к Афанасию поближе и положил на плечо тяжелую стареющую голову, как часто любил это делать в хорошие, спокойные минуты…
А родничок клокотал все сильней и сильней, пенился, бурлил невысоким ключиком, что-то бормотал и выговаривал. Вода уже растеклась вокруг него крохотным озерцом, стала искать себе выход, пробивать ручеек в сыпучем, зыбком песке, тянуться к камышам, к береговым лозам, к морю. Афанасий поспешил на помощь: где руками, щепочкой, а где просто сапогом стал раскапывать песок, вести родниковую воду от низинки к низинке, от одного лозового кустика к другому, пока она не соединилась с морской, затянутой тиной, едва колышущейся…
Потом они с Горбунком вернулись назад к родничку, еще раз умылись и попили студеной подземной воды, чувствуя, как она бодрит и возвращает силу уставшему телу. Горбунок долго тешился над озерцом, баловался, мочил в нем низко опавшую гриву, фыркал, а потом и вовсе удивил Афанасия: с трудом оторвавшись от воды, он высоко поднял над родничком голову, несколько раз встряхнул ее и вдруг заржал — да так призывно и тоскующе, что Афанасий невольно вздрогнул…
Склонившись над ключиком, он вновь принялся слушать, смотреть, как тот бурлит, поднимается над землей крошечным водопадом, как вода в ручейке, минуя камушки и песчаные бугорки, стремительно мчится к морю. И так Афанасию стало хорошо, так светло и чисто, что он, на минуту забыв о всех своих горестях и печалях, не сдержал в душе редкую теперь стариковскую радость и вдруг улыбнулся прозрачной этой родниковой воде, осеннему закатному солнцу и вообще всей непреходящей жизни…
Живым — живое в этой жизни краткой.
А. ТвардовскийДавно уже не было такой ранней весны…
Еще в середине марта снега почернели, прогнулись, а после и вовсе в один день растаяли, оголив иссиня-черные тротуары и небольшие островки земли в скверах и детских парках.
Мать все чаще стала выходить на балкон, подолгу смотреть на весеннее солнышко, на две березки, растущие у подъезда, где с утра до вечера копошились недавно вернувшиеся из дальних стран скворцы. Она вздыхала, глядя на их веселую, суетную работу, и однажды, присев в кухне на стульчике, не выдержала:
— Пора мне собираться, Коля.
— Ну что ты, мать, — попробовал отговорить ее Николай, — рано еще.
— Нет, сынок, пора. И грядки надо вскапывать, и в саду порядок навести.
Николай присел рядышком, обнял ее за плечи, пообещал:
— Вот выкрою на работе недельку, поедем вместе. И грядки тебе вскопаю и дров нарублю.
Мать на это лишь улыбнулась и негромко вздохнула. Николай замолчал. Этот горестный материнский вздох был ему понятен. Каждый год он обещает ей приехать весною, помочь управиться с огородом — и все никак, то одно, то другое… А как бы хотелось взять в руки лопату, обкопать яблони, выломать сухую малину, потом наточить топор и целый день рубить возле сарая смолистые, слежавшиеся за зиму дрова. Но с наступлением весны начинается у них на работе такая круговерть, что некогда в гору глянуть. Мотается Николай по стройкам, пропахнет, пропитается цементом, песком. Странно как-то жизнь его повернулась. В деревне, где жил с матерью почти до двадцати лет, цемент видеть приходилось редко. Основной строительный материал там дерево и глина. А вот после института он даже по ночам стал ему сниться. Николай, правда, не сетует: сам выбирал специальность. В командировки ездит не то чтобы с охотой, с радостью, но ездит… Работа есть работа.
Вот и нынче надо было собираться недельки на две, не меньше. Строит их трест в одном месте элеватор, а народ там не очень образованный, такой замесят бетон, что после хоть разбирай всю постройку, если только она сама не рухнет. Поэтому Николай еще раз обнял мать и еще раз пообещал:
— Вернусь из командировки — и едем.
— Ладно, сынок, — согласилась она, — немножко еще потерплю.
…Уехал Николай с легким сердцем, с надеждой, что по возвращении, может, действительно ему удастся вырваться домой. А то уж лет пятнадцать не видел, как цветут дома сады, как пашут по весне огороды. Да что там огороды, названия трав стал забывать. Однажды вспоминал, вспоминал, как трава называется, что во дворе у них растет: листья такие кругленькие, темно-зеленые, семена тоже кругленькие, на сковородки похожие, их в детстве есть пробовали, — да так и не вспомнил, пока Валентина, человек городской, в деревне только наездом бывающий, не подсказала:
— Да господи, полянички.
Целую неделю Николай безвылазно сидел на стройке, лазил в резиновых сапогах на самое дно котлована, мок под весенним дождем, изголодался, зарос щетиною, а на вторую неделю, когда дело уже начало немного проясняться, вдруг пришла от Валентины телеграмма:
«СРОЧНО ВЫЕЗЖАЙ, МАТЬ ПРИБОЛЕЛА».
Сердце у Николая нехорошо вздрогнуло. Мать болеть не умела. За всю свою жизнь он видел ее больною раза два-три. Году в шестидесятом, когда он после окончания десятилетки устроился работать в лесничестве лесорубом, вдруг приехала к нему на попутной машине дальняя их родственница Соня и сказала, что мать положили в больницу с аппендицитом. Он не то чтобы испугался — знал все-таки, что аппендицит не такая уж и страшная операция, — но стало ему как-то не по себе. Выпросил Николай у лесника лошадь и верхом, без седла помчался в город, накупил там всяких конфитюров, пряников, колбасы, сыру и заявился к матери в палату, бледный и встревоженный. Она лежала в самом углу уже после операции и вязала крючком кружево. Увидев Николая, нагруженного покупками, отложила в сторону кружева, улыбнулась ему веселой, совсем не болезненной улыбкой и стала рассказывать:
— . Вышла корову напоить, а оно как заколет в боку. Я к фельдшеру. Тот поглядел меня, послушал и определил: «Аппендицит у вас, Александровна, в больницу надо». Я вначале не соглашалась: корову не на кого оставить, кур, а потом думаю, раз аппендицит, то все равно когда-нибудь вырезать надо, ну и решилась. Андрей Петрович возле магазина с подводою стоял, отвез меня потихоньку, а к вечеру операцию сделали.
— Ох, мать, — присел на табурет Николай.
— Ничего, Коля, — засмеялась она, — теперь молодцом. На выписку скоро.
Просидел он тогда возле матери часа полтора, пока не начал волноваться за окном и бить копытом снег конь. Мать уговаривала Николая ехать скорее домой, а он все сидел и сидел, и было ему так покойно рядом с нею, так радостно, что она жива, здорова и будет жить еще долго-долго, года до двухтысячного. Ведь в ту пору матери не исполнилось даже сорока — нынешний Николаев возраст. Была она молодой, черноволосой, и лишь возле самых висков белели у нее несколько седых прядей. Так появились они еще в войну, когда она родила в оккупации Николая уже почти через полгода после гибели отца.