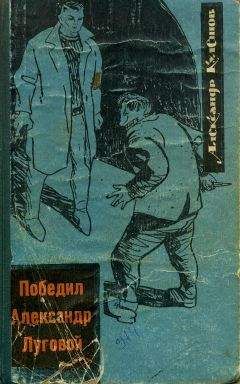— Спасибо за разрешение. Ваша дама танцует прекрасно.
Александр внимательно смотрит ему в лицо: ни тени насмешки. Виктор говорит серьезно, даже торжественно. Он еще раз склоняет голову и спокойно уходит.
Александр берет Люсю под руку, отводит в уголок за елку и, с трудом сдерживаясь, спрашивает:
— Ну?
— Что ну? — Люся смотрит на него удивленно.
— Зачем ты это сделала? Зачем ты пошла с ним танцевать? Ты же знаешь, что он...
— Ты что, Алик, с ума сошел? — Люся говорит до обидного холодно и спокойно. — Ты забыл, что он попросил у тебя разрешения — и ты разрешил.
— Но так же всегда делается! Я разрешаю, а ты отказываешь!
— Где это записано? В Коране? Или в правилах хорошего тона французского двора? Подошел наш общий знакомый — кстати, твой приятель, а не мой, — попросил у тебя разрешения танцевать со мной один танец (тоже какое-то унизительное неравноправие у нас сохранилось — мог бы прямо ко мне обратиться!), ты разрешил, мы танцевали — и все. Он пошел к своей компании, я — к своей, к тебе. Не понимаю, почему ты делаешь такое трагическое лицо, словно... словно у тебя украли твою любимую самбистскую куртку.
Люся фыркнула. Александр стоял растерянный. Он чувствовал, что его чем-то унизили, посмеялись над ним; ревность захлестывала его, и вместе с тем ему нечего было сказать. Люся была права. Что в сущности произошло? Ничего.
Некоторое время он молчал, не находя слов.
— Ну неужели ты не можешь говорить другим тоном? В конце концов...
— Перестань, Алик, — Люся ласково взяла его под руку, положила голову ему на плечо, — хватит, не надо портить этот вечер, мне так хорошо с тобой...
И все. И сразу стало так светло. Куда-то унеслись эта глупая ревность и чувство унижения. Вот она рядом с ним, он слышит сенный запах ее коротко постриженных русых волос (роза куда-то затерялась), ощущает близкий жар ее тела...
Они возвращаются к столу, где Елисеич, с трудом опираясь о спинку стула и раскачиваясь, как камыш на ветру, произносит тост.
— Я пью за первую и последнюю... полосы! Это как мозг и... и рецепты, нет, рецепторы... как сердце и руки! Руки! Рабочие руки! На первой полосе — передовица!.. Это как флаг... в ней... мысль главная... А на последней — все мы... выходные данные... редколлегия... телефоны... адреса! Кто несет этот флаг! И... куда несут... то есть тираж! Сколько людей нас читают... И я предупреждаю! — неожиданно гремит Елисеич так, что за столом все стихает. — Предупреждаю! — Он опять говорит тихо. — Если тираж станет... один экземпляр... то есть нас будет читать один читатель... я... я... брошусь в реку.
Он садится под всеобщие одобрительные аплодисменты. Встает Соловьев.
— В своей образной, насыщенной глубокими мыслями речи предшествующий оратор высказал одну особенно важную, свежую и в высокой степени оригинальную мысль! А именно! — Соловьев сделал паузу и поднял вверх палец. — А именно: если мы будем так работать, что у нас сохранится один только читатель — например, редакционный кот Васек, — нам действительно останется только головой в воду, ибо мы все будем уволены и лишены средств к существованию. И поделом. Но! — Он вновь поднял палец. — Но! Пока на этом столе есть, что есть, а влага, на нем пребывающая, предназначена не для того, чтобы в нее бросаться, а, наоборот, чтобы ее поглощать, не будем предаваться мрачным мыслям. Я поднимаю мой бокал за нашего замечательного, мудрого, дорогого главного редактора Семена Петровича Лузгина, благодаря блестящим организаторским способностям, чутью и чуткости, таланту и уму которого тираж журнала вырос на тридцать пять тысяч экземпляров, наши гонорары — на... э... э... процентов, а престиж «Спортивных просторов» — до космической высоты. Дорогому благодетелю нашему Семену Петровичу (и пусть сгинут подхалимы) слава, слава, слава!
Звучал смех. Потом были новые тосты. Выпили и за сочетание красоты и мужества — художественной гимнастики и самбо, и за, как выразился Соловьев, «рисунок на снегу» — Колю и Веру Бродскую, и, наконец, по выражению того же Соловьева, за «Мафусаила отечественной журналистики» Елисеича, и за многое другое.
Потом разыгрывали лотерейные билеты. Люся выиграла кастрюлю, Елисеич — ошейник для собаки, а Вера Бродская — детскую погремушку, что Соловьев немедленно использовал для острот, заставлявших Веру вспыхивать. Сам Соловьев выиграл метлу и тут же отправился с ней танцевать.
Было уже половина четвертого, когда Люся и Александр, провожаемые возгласами сожаления и сочувствия, отправились на дежурство.
Закрылись стеклянные двери, за которыми угасли звуки музыки и взрывы смеха. Они вышли на белеющий под свежевыпавшим снегом бульвар.
Глава тринадцатая
НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
До штаба отряда добрались быстро. Там потолкались еще некоторое время, пока собрались все, пока поздравили друг друга с наступившим, Новым годом. И, наконец, разбившись на группы, вышли на дежурство.
В их группе было трое: Александр, Люся и еще одна девушка — Нора, волейболистка, — дружина ведь состояла из лучших московских спортсменов.
Последним в штаб отряда прибыл Виктор Орлов, последним он и вышел со своей группой, куда входили известный лыжник-чемпион и гимнастка.
Появление Виктора опять испортило Александру настроение, и он шел мрачный, задумавшись о своем. Ему вдруг сделалось страшно: что же это получается? Только из-за того, что появляется какой-то Виктор, он, Александр, совсем выходит из колеи. А что ж будет потом? Если говорить прямо, он Люсю ревнует ко всем и ко всему, а она ведь не дает никакого повода. А если б дала? Он же хорошо знает характер своей подруги — она не станет стесняться, если чего-нибудь захочет и если будет считать, что ничем Александра не обижает. И, что самое ужасное, она будет права! Она действительно ничем не обидит его, но ему-то от этого не легче, ему-то все равно тяжело. Вот сейчас, чего бы он хотел? Он бы хотел, чтоб Люся подошла к Виктору и сказала ему: «Уйди! Оставь меня! Я люблю одного только Алика!» Но, если он потребует от Люси такое, она решит, что он сошел с ума. И будет права. До чего все же противное чувство — ревность! Правильно сказал кто-то из великих писателей: «Ревность — это зубная боль в сердце».
Они шли гуськом. Впереди — что-то напевая и даже пританцовывая, еще не расставшаяся с новогодним настроением Нора, за ней погруженный в свои невеселые мысли Александр, сзади — Люся, то и дело останавливавшаяся: у нее что-то не ладилось с ботинком. Наконец она закричала:
— Эй, братцы! SOS! Александр, ты что? Новый год кончился — значит, даму побоку, пусть плетется, как хочет? Ты уже не галантный кавалер, а дружинник на посту?
Александр вернулся, помог переобуть ботинок. Люся крепко взяла его под руку, и они ускорили шаг, нагоняя ушедшую вперед Нору.
Москва в новогоднюю ночь являла не совсем привычную картину. Еще не было пяти часов, а улицы пестрели от народа. То и дело встречались веселые компании с гитарой или баяном. Слышались песни. Не спеша двигались семьи или немолодые пары. А молодые — совсем медленно. Они хотели продлить эту чудесную ночь.
Вдоль улиц, словно верстовые столбы, одиноко торчали охотники за такси. Как только вдали показывалась машина, они, как семафоры, однообразным движением поднимали руки. Но машина проносилась мимо. И «семафоры» уныло продолжали вглядываться вдаль. Впрочем, иногда машина останавливалась, и тогда к ней бежали со всех сторон и влезали впятером, а то и вшестером — в такую ночь орудовцы старались к мелочам не придираться.
Порой навстречу попадались ребята из их же дружины. Обменивались приветствиями, шутками. Однажды где-то вдали замаячила, как показалось Александру, фигура Виктора, и он поспешно свернул со своей группой в переулок.
А погода была чудесной. Легкий, шедший почти всю ночь снежок опушил деревья, взбил им их седые прически, выровнял и пригладил сугробы, утолстил, побелил провода над улицами и площадями. Белый-белый, пышный и чистый лежал повсюду снег.
— Какой снег — девственный, нетронутый, — восхищалась Люся, — будто говорит: «В Новый год надо входить чистым. Все грехи оставляйте в старом». Ты свои оставил, Алик? Алик, ты что, оглох? Что с тобой?
Александр очнулся от своих мыслей.
— Грехи? Какие грехи? У меня нет грехов.
— Нет? Да, действительно, я совсем забыла — ты ведь беспорочный ангел. Теперь я понимаю, почему тебя никогда не могут уложить на лопатки: крылья мешают!
Они шли Садовым кольцом. Слева осталось исчезавшее где-то в черной высоте здание Министерства иностранных дел, справа открывалась широкая панорама ярко освещенного Бородинского моста, Киевского вокзала и убегавшего вдаль Кутузовского проспекта.
Нора деликатно шла шагов на пять впереди.
По-прежнему держа Александра под руку, опершись на нее всем телом, Люся подводила итоги: