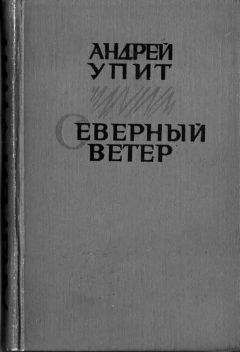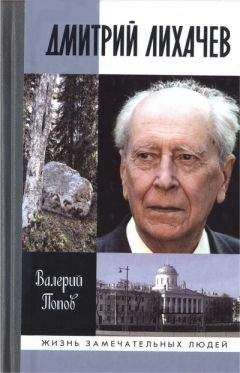Пока шел в гору, мимо забороненного вчера поля, на сердце немного отлегло. На середине холма рожь взошла довольно хорошая, даже проклятых сорняков было меньше. Если только ее скосить, смолотить и потом на сильном ветру провеять, хозяева, пожалуй, обойдутся своим зерном. И Мартынь сразу почувствовал в ладонях гладкую рукоятку совка, видел, как под сильным сквозняком из широко открытых дверей гумна течет с лотка серая струя зерна; тяжелое драгоценное зерно, шелестя, отскакивает от стены и ложится в кучу, а мякина для корма свиней легко оседает тут же у ног.
Только что посеянный овес хорошо заделан, мелкие борозды от бороны, точно по нитке, протянулись через горку. Молод-зелен еще Андр Осис, по боронить умеет… Четыре вороны скакали по вспаханному полю и, вертя головами, искали, не осталось ли где-нибудь незасыпанное зерно. «Ишь падаль!» Старший батрак схватил ком земли, по еще не успел бросить, как черные обжоры уже взмахнули крыльями и с громкими криками полетели к лесу. Супруга аиста, свесив желтый клюв через край гнезда, сидела на верхушке дуба, под которым были составлены жерди. Сам хозяин, описав большой круг, опустился рядом и, усердно стуча клювом, хвастался первым удачным утренним вылетом. Аистиха, по-видимому, не верила, ее клюв качнулся два раза из стороны в сторону. «Где бы ты высиживала своих птенцов, если бы мы с Маленьким Андром не втащили на вершину дуба колесо? — Мартынь Упит ухмыльнулся. — Помнишь, как прошлым летом один из твоих детенышей вывалился из покосившегося гнезда, упал на землю и разбился?»
Солнце уже поднималось над торчащим в воздухе крылом ритерской мельницы. Над восточным углом молодого леса потянулся седой туман; но с листьев мелкого кустарника на опушке еще падали большие редкие капли росы. Три березы, словно выбежав из леса, выстроились в ряд. У большой по нижней части ствола протянулся до самой земли буроватый след. Старший батрак возмущенно покачал головой: какой-то мальчишка весной спускал сок, пробуравил дыру для желобка, желобок выдернул, а отверстие заткнуть забыл — дерево кровоточит напрасно. Он срезал ольховую ветку и заткнул рану.
Такой большой рощи, как в Бривинях, во всей волости больше не было. Вверху росли ели, на откосе, вплоть до прибрежного луга, — стройные березы. Хоть и пьяница был старый Ванаг, но рощу щадил, оглоблю для дровней и ту не позволял срубить в своем лесу. Да, совсем как в лесу чувствовал себя Мартынь Упит, когда продирался через мелкие елочки и березки на опушке. Густо растущие деревья были стройны и без ветвей снизу. Еловые и березовые строевые бревна можно будет палить подряд. Зеленовато-бурый мох под ними — как мягкий плотный ковер; стебли вьющихся растений сплелись и закурчавились; лужайки, не опутанные вьюнками, осыпаны нежными белыми цветочками заячьей капусты. Ни ясеня, ни клена здесь не было, только старый вяз, раскинув развилку ствола и далеко отстранив другие деревья, стоял один, как толстая старуха хозяйка, накинувшая зеленый платок. На его сухую верхушку залетел серенький дятел и усердно постукивал носом; ближе к реке долбил его спесивый родственник — пестрый дятел. В роще повсюду порхало и пищало, свистело и трещало; достаточно только внимательнее посмотреть кругом, как сразу увидишь гнездышко, мастерски прилепленное к коре елового ствола или подвешенное на ветке. Иногда неприятное дребезжание серых дроздов заглушало этот веселый шум. Вот с криками, шурша крыльями в верхушках елок, взвилась стая ворон.
— Сволочь этакая! — Мартынь поднял кулак и погрозил в воздух. — Налетели сюда со всего света! Разве здесь, шагов за сто, за ложбиной, не начинаются березы Лиелспур, а за большаком, но ту сторону реки, ели викульских Лапсенов, а там дальше — лес Робежниеков и две рощи Яункалачей?
За леском потянулся орешник, вначале редкий, но чем ближе к опушке, тем гуще, пока наконец не пришлось руками раздвигать ветки, чтобы пробраться сквозь чащу. Мартынь Упит поежился, когда холодные капли росы упали за воротник. Поросль орешника внезапно обрывалась у края глинистого обвала футов в пять вышиной, а под ним по мягкой низине пастбища тянулись кусты черной ольхи и ивняка, пахнущие илом и болотной травой. Солнце уже сильно грело, пар от росы расстилался легким туманом. Из тумана вдруг выплыла Машка, торопливо переступавшая спутанными ногами. Конечно, в орешнике ей делать нечего, она хитрила — должно быть, почуяла своего и пошла навстречу, чтобы тот почесал ей загривок. Получив свое, Машка, по старой привычке, равнодушно взмахнула хвостом и заковыляла дальше. За кустом тихо заржал вороной. «На этот раз у меня ничего нет для тебя», — сказал Мартынь, пожав плечами. Но вороной просил не корочку хлеба, а жаловался: путы сползли под щетку. Мартынь нагнулся, чтобы перевязать, и почувствовал, как вороной хватает его губами за спину. «Ты меня не хватай! — прикрикнул он. — Не видишь — на мне белая рубаха: еще неизвестно, какие у тебя губы!» Из-за другого куста вытянулась голова лошади со звездочкой на лбу, с опущенными ушами, с бельмом на глазу. Серая лежала на боку, выбрав местечко посуше, откинув голову, выпятив круглый, как шар, живот, лукаво посмотрела на проходящего «второго» хозяина. Очевидно, пока ночной пастух спал, она добралась до ржи Озолиня и нажралась до отвала — ее учить не надо. «Ну, ты смотри у меня, озорница!» — Мартынь погрозил ей пальцем.
Костер пастуха уже издали можно было почуять по запаху, Галынь развел его наверху под елью, на сухой полянке, около ржи Озолиня — там, где даже в самые холодные ночи не ложилась роса. Как и все одиноко растущие на поле деревья, ель была низкая, обломанная, с толстыми наплывами, с затекшими смолой порезами и ссадинами на стволе. Костер уже потух, только дымились обгоревшие головешки. Галынь спал, растянувшись, положив голову на бугорок у пенька. Около него лежал до половины сплетенный лапоть и размотавшийся виток лыка. Пастух проснулся только тогда, когда Мартынь, усевшись рядом, начал выколачивать об обгоревшее полено свою трубку, заспанными глазами заморгал, глядя против солнца.
— Тьфу, — сплюнул он, — вот испугал! Кой черт тебя гонит в такую рань в воскресное утро?
Мартынь понял и то, чего Галынь не договорил: Галынь не был ни ленив, ни завистлив, но хозяев за друзей не считал. Однажды в воскресенье, увидев, что старший батрак чинит изгородь выгона, так и сказал Либо: «Мартынь Упит хочет озолотить хозяина». Когда так говорил Осис — это было шуткой, ну а Галынь и впрямь считал, что он пляшет под хозяйскую дудку, что он подлиза, из кожи вон лезет. Сказать Либе — это все равно что самой хозяйке. Мартыня Либа недолюбливала, и он платил ей тем же. Мартынь ответил Галыню только после того, как сделал порядочную затяжку:
— Какая там рань? Слышишь, скотина уже на пастбище.
За кустами на паровом поле сопели коровы и покрикивал пастушонок Андр. Он только что громко пропел песню о тумане и о росе, от которой сыреют ноги и ржавеет железный венчик на голове у девушки. Андр пел с чувством, хотя венчика у него не было.
Галынь рассказал, что вчера вечером сюда приходил Гоба из Лиелспуров. Его хозяин тоже пошел в имение выкупать землю. Мартынь Упит кивнул головой: «Ну что ж, теперь об этом только и говорят».
— В этом году у межгальцев не останется ни одного хозяина-арендатора, — радостно добавил он, точно ему была какая-нибудь выгода оттого, что арендаторы выкупают усадьбы.
— Озолинь не выкупит, — кивнул Галынь в ту сторону, где за кустами лениво дымилась белая трубе Озолиней.
— Сам Озолинь уже стар и денег у него нет. Но найдется другой, усадьба без хозяина не останется. Вот в Цине тоже с будущего Юрьева дня кто-то придет из калснавцев.
— Не калснавец, а вестиенец. Лапса из Ритеров рассказывал, что он знает.
— Канеп, что выкупил Иецаны, тоже вестиенец. — Мартынь Упит вынул изо рта трубку, чтобы сплюнуть подальше. — В полусапожках и сюртуке разгуливает, чисто шут. Никакого толку от этих дивайских хозяев, сами землю не выкупают, а только пускают чужаков в волость.
— Что ж ты сердишься, не все ли равно, кто дом выкупит, диваец или вестиенец? Нам с тобой все равно хозяевами не быть — в Юрьев день бери свое имущество на спину и иди туда, куда наймешься.
Теперь Мартынь рассердился не на шутку.
— Ты рассуждаешь как дурак! Тебе, должно быть, все одно к кому наняться — к латышу или к немцу.
— Все одно, — охотно подтвердил Галынь. — Мне важно только, чтоб работой не донимали и кормили хорошо.
— Чисто цыган! Тебе бы с Браманиете в пару, сколько лет она в Клидзине нянчит детей у Ерцберга.
— Ты думаешь, ей живется хуже, чем нашим Либе и Анне? С лукошком картошки по борозде не бегает и вилами раскидывать навоз ей тоже не приходится.
На минуту старший батрак потерял дар слов, даже трубкой чмокать перестал. Больше всего его злили маленькие глазенки Галыня, в которых все время искрилась непочтительная усмешка.