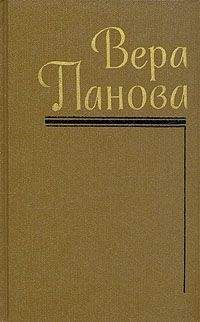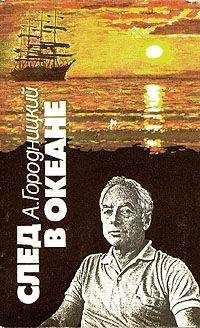Чернота светлела, звезды меркли. Вошел в город — уже только одна звезда легко и алмазно висела на востоке над крышами окраинных хибарок, все было серого цвета и неподвижно. Акации стояли погруженные в сон. Трубы не дымили. Спал сидя сторож на лавочке возле маслобойного завода. Два-три прохожих, должно быть загулявшие, как и он, за весь путь повстречались Севастьянову. Он сделал крюк, свернул на Первую линию. Отсвечивали камни пустых крылец. Мимо подворья, где жила Зоя, прошел он, мимо ворот с низенькой калиткой. «Я тут, я снюсь тебе?..» Хотел войти во двор, но не решился: собаки забрешут по всей Первой линии. Рядом, у Зойки маленькой, жалюзи были опущены наглухо. Севастьянову вспомнилось, что в этот вторник, который только что минул, Зойкиному отцу, Василию Ивановичу, должны были делать операцию. «Ну, если спят, верно все благополучно», — подумал Севастьянов, проходя, — ему не хотелось думать о печальном.
Чуточку зарозовело небо и по деревьям пробегал шелест пробуждения, когда он добрался домой, предвкушая, как сладко сейчас уснет. Во дворе, как и всюду, — ни души, безмолвье. Грохот его шагов по наружной железной лестнице должен был, казалось, разбудить весь квартал. Он достиг последнего лестничного марша и увидел, что кто-то сидит на ступеньках пониже площадки, на которую выходила его дверь. Этот кто-то спал, закутавшись в серый платок и прислонясь к перилам, — Зоя! Зоя у его двери! Как мог тише — чтоб не испугать — поднялся он к ней. Лицо ее было закинуто к розовеющему небу; губы приоткрыты. Он осторожно сел рядом. Осторожно обнял. Она открыла непонимающие глаза и закрыла снова.
— Зоя! — прошептал он.
Она устроилась удобней у него на груди и сонно задышала.
— Проснись! Пойдем! — будил он шепотом и покачивал ее в руках. Проснись! Как же ты?.. Могла сорваться… убиться…
— Это ты! — сказала она, проснувшись. — Я к тебе пришла.
— А я был на Первой линии. Разговаривал с тобой, а ты тут!
— Ты был у нас? У моих?
— Да нет. Я прошел мимо. Знал бы я — вот балда! Ты давно тут?
— Не знаю. Наверно, не очень. Не знаю. Я ходила по улице…
— Какая ты умница, какая удивительная, что ты тут!
— Он выгнал меня. Он сказал, чтоб я… чтобы я девалась куда хочу.
Она залилась слезами в его руках.
Он смотрел на нее, покачивая. Все было как сон. Розовое небо и сквозная железная лестница, повисшая над пустым двором. И они двое на вершине лестницы.
— Но он же замечательно сделал, что выгнал тебя. Он просто ничего гениальнее не придумает за всю свою жизнь. Я его обожаю за то, что он тебя выгнал! Я не знаю, как его благодарить! Давно бы ему догадаться это проделать — выгнать тебя, чтоб ты пришла ко мне, где же быть тебе, если не со мной, а? Скажи.
Он говорил ей в ухо и прикладывал губы к этому маленькому уху, распылавшемуся от слез, и старался рассмешить ее и успокоить, и ни о чем не спрашивал, чтобы не растравлять ее обиду, — никогда ни о чем он не спрашивал, она была свободный человек, ее любовь была — прекрасный дар.
— Мы еще долго тут будем сидеть, как ты думаешь? — только это спросил он под конец, и она засмеялась. До чего становилось весело, когда она смеялась и смеялись ее глаза, еще полные дрожащих слез, в мокрых ресницах и уже ликующие, ее глаза — черные зрачки в золотисто-карем ободочке, голубой белок и по маленькому Севастьянову в каждом зрачке.
Он открыл своим ключом дверь черного хода. Остерегаясь разбудить ведьм, тихо прошли они через кухню в свою комнату.
Часа два он проспал глубоким сном и проснулся разом, словно его встряхнули. Встряхнула мысль: «Еды ни крошки; когда она ела вчера? Она проснется голодная». С гордостью и нежностью, которых раньше не знал, посматривал на нее, одеваясь. Обшарил карманы, собрал все свои деньги, мятые бумажки, сосчитал… Она спала. Ее старый серый вязаный платок, порванный во многих местах, висел на спинке кровати. Перед тем как уйти, он взял этот платок и укутал ей ноги поверх одеяла. Не потому, что она могла озябнуть; она не могла озябнуть в это теплое утро; а потому, что ему теперь необходимо стало укрывать ее, кутать, заботиться о ней.
Брат и мать считают ее своей собственностью. Так понял Севастьянов из ее объяснений. Многое он предпочел бы не знать. Упоминание о Щипакине было как обухом по темени, но Зоя хотела объяснить, какие отношения у нее сложились в семье, почему она вынуждена была уйти. Когда она собой ради них пожертвовала, они решили, что так всегда будет; что они будут распоряжаться ею как своим имуществом.
До революции они жили под Петроградом, в деревне Пудость. Отец держал маленькую, совсем маленькую, крохотную гостиницу; без вывески даже, но ее знали; в нее приезжали парочки на одну ночь — из шикарных мест вроде Царского, Павловска, — «иной раз такие офицеры приезжали и с такими дамами, ты даже не представляешь, как эти дамы были одеты и какими от них пахло духами!» Отец умер. От войны и голода они уехали на юг к бабушке. Зое было тогда двенадцать лет. Бабушка тоже умерла. У нее тоже все пропало.
— Мы ужас до чего нуждались. Меня кормили у Зойки, а его и маму никто ведь не кормил. И его не хотели принимать никуда, считали, если горбатый значит, слабый, вечно будет на бюллетене. Мы бы просто пропали, если бы он не устроился на работу.
Мать жалеет горбуна и слушается, Зою она не любит и ругает. А горбун Зою ненавидит. Он всех здоровых ненавидит за свое уродство.
— Правда, он думал — Толя женится. — Она мерзавца Щипакина называла Толей.
— Перестань!
— А вчера я сказала что не выйду за этого… за которого они хотят, чтоб я вышла. У него фруктовый магазин на Садовой. Он…
— Перестань! Больше ты к ним не пойдешь. Все кончено, не думай, забудь.
— Как же я не пойду, там все мои вещи, надо забрать.
— Какие у тебя вещи.
— Ну все-таки. Я же совсем без ничего. Выбежала — платок схватила…
— Хорошо, я заберу. Тебе туда не для чего ходить.
— Нет, тебя я не пущу. Ты ненормальный.
— Не бойся, я его не прихлопну. Я не хочу сидеть в исправдоме. Слишком много у меня есть, чтоб я от всего отказался и сел в исправдом.
Он пришел к ним, когда горбун был на работе. Зоина мать месила тесто, босая, с волосами, кое-как сколотыми на затылке гребенкой, руки выше локтя в муке.
— Я за Зоиными вещами, — сказал Севастьянов.
— Она где же? — отрывисто спросила женщина.
— У меня, — ответил он.
Она вытерла руки тряпкой и пошла собирать одежки, валявшиеся здесь и там. Убого, грязно! Вокруг плиты просыпан штыб. Возле кровати лежал среди щепок топор. Женщина обходила его так, словно это было его постоянное место, словно так и следовало топору лежать возле кровати. В кривое оконце, расположенное низко над полом, видна была земля, залитая мыльными помоями.
«За этот стол она садилась, — думал Севастьянов, — здесь по утрам открывала, проснувшись, глаза… И хоть бы что-нибудь, кроме помоев, было видно в оконце, я всегда считал, что у них, наверно, еще хуже, чем в Балобановке, там по крайней мере небо кругом, простор, а здесь все стиснуто… Выходила отсюда за стихами, за танцами, за радостью, а возвращалась-то обратно в этот куток, к братцу и к мамаше…» В жилье пахло какой-то гнилью, как из старой бочки. Головой Севастьянов почти касался потолка.
— Пользуешься! — сказала Зоина мать и швырнула ему узелок. У нее были отекшие щеки и мешки под глазами, но глаза красивые карие, брови длинные, и Зоя и проклятый горбун были похожи на нее. — Пользуешься, сволочь, что человек обиженный, что силы у него нет добраться до твоей ряшки!
Севастьянов взял узелок и вышел. С многочисленных крылечек, из окошек с геранями жители подворья смотрели, как он идет по обставленному лачугами дворику, шагая через мыльные лужи.
На улице под акациями мальчишки играли в айданы, они кричали, как воробьи. Жалюзи на доме Зойки маленькой были опущены по-ночному — наглухо. «Надо справиться о Василии Иваныче. Совестно не зайти, рядом был и не зашел. Зойки и Анны Алексеевны, должно быть, дома нет, ну у бабушки узнаю». Севастьянов поднялся по горячим от солнца камням и нажал белую пуговку звонка. Звонок отчетливо прозвучал за дверью; но никто не вышел, и раз и другой. «Может, они во дворе». Калитка была заперта. Севастьянов постучал.
Мальчишки, игравшие в айданы, обратили на него внимание и, отвлекшись от своего дела, сказали ему:
— Эй, ты! Чего ломишься! Они в больнице все! У них хозяин помирает!
Еще раз он побывал на Первой линии — уже после смерти Василия Ивановича.
О смерти узнал не сразу и на похоронах не был.
Шел и боялся, думал: будет плач, рыданья. Увидят его и заплачут в голос. Станут рассказывать, как мучился, что говорил. И какими словами утешать, разве их можно утешить?
В эгоизме своего счастья он не желал печали, не желал боли, причиняемой жалостью, желал нераздельно принадлежать своему счастью. Шел потому, что как же не пойти — не по-людски, не по-товарищески…